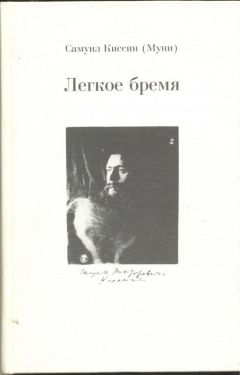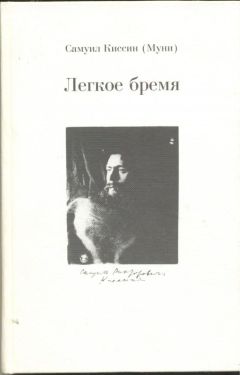Здесь нет никакого искусства, ей-Богу ни чуточки. Что они все выдумали? Здесь — жизнь, быт — и церковь. Царица-Венеция! Genova la superba!** Понюхал бы ты, как они воняют: морем, рыбой, маслом, гнилой зеленью и еще какой-то специальной итальянской тухлятиной: сыром, что ли? А выходит божественно! Просто потому, что не «творят», а «делают». Ах, российские идиоты, ах, художественные вы критики! Олухи царя небесного! Венецианки поголовно все ходят в черных шалях без всяких украшений, с широкой черной бахромой и ничуть в них не драпируются, потому что некогда. Красиво — изумительно. Это что же, Джотто какой-нибудь выдумал? а? У, скворцы, критики, соли вам насыпать на хвост! Прощай. Обозлился. Завтра поеду в Геную, в порт, ночью, на матросов глядеть. А через неделю — через Пизу и Флоренцию — в Венецию. Россиянин, воспевший Пизу, носит многозначительное имя: Бобка. Только и всего. Вот размахнусь да и пришлю фельетон из Венеции[118]. Посему — сие послание — тайна.
Твой Владислав.
Напиши мне в Венецию: Italia, Venezia Vladislaw Khodassewitch, Ferma in poste. Женя лишила меня твоего изображения, которое вез я как походную икону. Увы! Получил ли ты его, по крайней мере?
* Сей родительный падеж неудачно заимствован из польского языка. Прости. (Примеч. Ходасевича).
** Генуя великолепная! (итал.)
20. В. Ф. Ходасевич — С. В. Киссину
Флоренция. 11 июля/28 июня 911
Завтра еду в Венецию, где буду жить долго. Это неизбежно по деловым причинам. Я жив, здоров и весел. Вот тебе Джоттова кампанила, которая, как вся Италия до Леонардо, Рафаэля и Мик<ел> Андж<ело> — ничуть не красива. В ней нет никакого «искусства», пусто бы ему было.
Прощай.
Владислав.
Пиши. Лидии Яковлевне привет.
21. С.В. Киссин — В.Ф. Ходасевичу
Вырубово, 25 июня <1911>
Не знаю, дойдет ли к тебе это письмо, так как сюда письма приходят на 6-ой день. Где будешь ты, когда в Венеции будет это письмо? Помнишь, ты говорил: все зависит от интонации. Не знаю, как прочел ты мое письмо (где о карточке), но моя интонация была самая благодушная. Был ли ты у какого-нибудь итальянского медикуса? Да — вот еще: ты знаешь, та Италия, о которой ты пишешь, открыта Немировичем-Данченко и П. П. Гнедичем?[119] Это тоже старая Италия. Ну, что ж! Ведь ты сам знал, знаешь и, сколько бы ни мистифицировал себя, будешь знать, что грязь на улицах столь же показательна, как и архитектура; что в Николаевскую эпоху фокус общества был вовсе не в Пушкине; что Россия того времени была едва в 3 тысячи человек (может, и меньше, сколько подписчиков у Литературной Газеты?); что в Ассирии был тоже быт, а не одни Сарданапалы и отрубленные головы пленных царей и т. д. И где это быт — не главное? Прости меня за эти рассуждения томительные: у нас погода сырая, а у тебя скрытый энтузиазм. Вот «ты в восторге от Берлина, мне же больше нравится Медынь»[120], по слову мудреца.
В фельетон вставь рассуждения о том, какие преимущества имеет жара у моря перед жарой в середке суши: об этом любят говорить, слушать, читать. Это из породы: «как это верно!» Неожиданности должны быть только успокаивающего свойства, например: в Италии не все черны, не все красивы, не все англичане, ну, одним словом, все даже правда.
А вот тебе новости: Янтарев[121] в газете облаял Диесперова, очень глупо облаял и скучно. Измайлов облаял альманах Мусагетский[122] без имен — скучно. Вяч. Иванова тоже он. Дима[123] написал, что Гамсун — «пантеистическое копанье в носу» (правильно!), а вот Киплинг! Но штопать носки лучше, чем писать в газетах, а он…
Недели две как не был в городе. Немножко играю в городки. Рука ноет. И зады болят, понимаешь, зады, как-то не то врозь, не то вместе. В карты не играл, водки не пил, писать не писал, читать не читал, — кто не взбесился бы?
Пишешь ли ты? Я многое знаю, что нужно делать, но не даю советов, чтобы не испортить тебе возможность что-нибудь сделать.
Видишь, какой я мухомор.
Привет Евгении Владимировне.
Будь здоров: не вздыхай: о, Русь! о rus![124] Нэкрасиво: скачками вздохи выйдут.
Твой Муня.
Лида кланяется.
22. С.В. Киссин — В.Ф. Ходасевичу
[Открытка.[125] 5.2. 1915 г. Варшава.]
Владя,
Я сегодня утром должен был поехать в Москву. Но ночью меня вызвали телефонограммой на II-ой эвакуационный пункт. Что со мной будет, не знаю. Рейнбот[126] слетел. Ченчи высылаю. Твой.
23. С. В. Киссин — В. Ф. Ходасевичу
[Открытка. 7.3. 1915.]
Вот еще какой штукой утешался пан Слонский Эдуард[127] в стычне сего года. Ты совершенно ни к чему болен, Владя. И напрасно мне Нюра — если ты сам не можешь — не напишет ничего о тебе. Я по-прежнему самый невероятный человек в ведомстве, проше пана. Пиши. Впрочем, теперь я по крайней мере здоров. А то тоже возился со всякими хворобами. Мое ушановане*
Муни.
* Мое почтение (польск.).
24. С. В. Киссин — В. Ф. Ходасевичу
[Полевая почта. 2.4. 1915]
Дорогой Владя!
Возможно, что я тебе пришлю небольшую штуку, которую мне необходимо напечатать. Печать — вещь продажная. Мне для улучшения и укрепления моего положения необходимо печатно похвалить моего начальника: 1) это ему будет приятно, 2) это ему покажет, что при случае я могу и выругать таким же образом. Это необходимо. Мобилизуй для этого все мало-мальски дружеское тебе и мне газетно-журнальное население Москвы. Ни одна блоха не плоха: и Голоушев[128], и Койранский[129], и Грифцов[130], и я не знаю, кто еще.
Твой Муни.
Мое ушановане.
Если хочешь узнать обо мне, звони Лиде: я пишу ей часто и о своем самом важном подробно.
25. С. В. Киссин — В. Ф. Ходасевичу
[Открытка.]
Как-никак, а Словацкий[131]. А здесь печально мне. Вроде рек Вавилонских мне эта Висла. Кажется, только тебе было бы здесь так не по себе, как мне.
Муни.
Привет Нюре и Любе[132].
<апрель 1915 г.>
26. С. В. Киссин — В. Ф. Ходасевичу
Автор — Н. Zaremba. В подлиннике называется «Напиток осени»[133]. По-моему, лучше «Осенняя кружка». Перевод с вариантами. Текст точный, варианты, может быть, лучше. Если можешь, напечатай. В крайнем случае даром в какую-нибудь военную пользу. Привет. Целую.