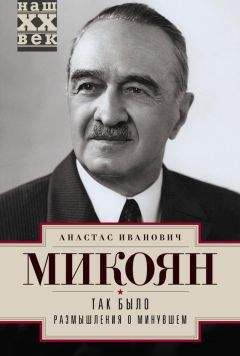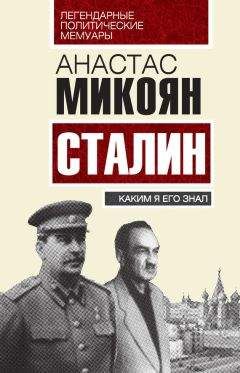В результате этих расселений в одной из небольших комнатушек на втором этаже над скромным ресторанчиком в доме какой-то стокгольмской фру поселились два молодых человека. Один из них – русский – прибыл первым и в одиночку – кружным путем через финскую глубинку, другой – кавказец со странной фамилией Иванович – ехал в Стокгольм с большой компанией на специально зафрахтованном партией пароходе.
Каждый из них своим соседством остался доволен: кавказец – тем, что ему попался в сожители простой, недалекий и симпатичный паренек, к тому же невысокий, как и он сам, что для него было очень важно, а славянин – тем, что суровый и замкнутый нерусского облика человек, представившийся Кобой, неожиданно оказался общительным, веселым и жизнерадостным, а его непроницаемые при первой встрече глаза на рябоватой смуглой физиономии вдруг заискрились теплым дружеским вниманием и добротой.
Когда они после заседаний и «товарищеских чаев» оставались вдвоем, то вели бесконечные беседы обо всем на свете. И здесь кавказец Коба удивил своего соседа Клима основательным, по его, Клима, меркам, знанием мировой истории и литературы и тем, что мог по памяти цитировать огромные фрагменты довольно непростой прозы.
Однажды они вдвоем прогуливались по набережной, расположенной по соседству с их домом-рестораном, и заметили, что в одном месте этого променада люди вели себя сдержаннее и даже дети здесь не шумели и не бегали. Вскоре они поняли, что все дело в сидевшем там на краю набережной рыболове, оказавшемся королем Швеции. Коба и до этого был раздражен всеобщим шведским демократизмом, полностью лишившим смысла такие родные ему слова, как «классовая борьба», «диктатура пролетариата» и т.п. Вид же короля без охраны и свиты с удочкой в руках в ряду прочих рыболовов привел его в тихую ярость, замеченную Климом, но почему-то вылившуюся на совершенно иной раздражитель, не связанный с псевдодемократическим поведением местного венценосца.
– Посмотри, Клим, – сказал Коба, указывая на другой уголок набережной, где один из делегатов их съезда разговаривал с кем-то из местных у каменной ограды, – наш жидок сразу же подцепил жидка шведского!
– Вот ты скажи мне, – продолжил Коба с каким-то непонятным Климу пристрастием, от которого его грузинский акцент еще более усилился, – почему они сразу находят друг друга в любом месте? Ведь у нашего жида и у шведского нет ничего общего! И почему вообще жид из забытого Богом местечка так быстро становится своим в любой стране, осваивает язык и чувствует себя как дома?
– Ты преувеличиваешь, Коба, – отвечал Клим успокоительным тоном, – они такие же люди, как и мы с тобой, но, может быть, те, кого мы знаем, лучше, чем мы, усваивают чужие языки. И среди них есть всякие – образованные и необразованные. Ну какой же, например, из Мартова или Аксельрода глупый местечковый еврей? Они же ведь на равных не только со Стариком, но и с самим Плехановым. Это же европейцы!
– Я не об этом, – гнул свою линию Коба. – Я говорю о том, что получается так, будто у жидов, кроме всяких партий, где они с удовольствием состоят, есть еще какая-то своя всемирная организация, членом которой является каждый жид, где бы он ни родился, и, если для них эта организация является самой главной, тогда для любой партии и для нашей, конечно, они очень ненадежные люди. Я где-то читал, что если взять по одному жиду, допустим, в России, Америке, Франции, Англии, Австралии и еще черт знает где, где их только нет, запереть их в пустые комнаты и одновременно дать команду играть на скрипке, то все они, не сговариваясь и не зная друг о друге, возьмут одну и ту же ноту. Раньше я смеялся над этой сказкой, но теперь, поездив по России и здесь вот, вижу, что она недалека от истины.
– Думаю, что, если бы ты увидел на набережной в Стокгольме грузина, ты тоже подошел поговорить. Это во-первых. Во-вторых, евреев в разных местах преследовали тысячелетиями. Может, это и сделало их солидарными не только на классовой, но и на национальной основе, а не какая-то там «всемирная организация»! – возразил Клим.
– На Кавказе грузинских евреев не преследуют, а они такие же, – мрачно буркнул Коба.
Клим почувствовал перемену настроения Кобы и мягко сказал:
– Не спеши делать выводы. И постарайся не употреблять слово «жид», оно ведь не кавказское, а польское, и ты можешь обидеть наших товарищей, а среди них есть такие, что тебе очень понравятся, хоть они наверняка состоят во всемирной, попирающей нас, мужчин, организации. Я говорю о женщинах. Ты еврейку пробовал, Коба?
Товарищ Коба, конечно, тут же вспомнил гостеприимную Марию Айзиковну, скрасившую ему одну ночь в сибирской глуши, но решил, что лирика сейчас неуместна, и сурово ответил:
– Не пробовал! Партия – это боевой отряд, а не «заведения», куда, почти не прячась, заглядывают некоторые твои «товарищи»!
– Революционерам тоже нужно отдыхать, – сказал Клим. – И ты еще все попробуешь, когда тебя будут насиловать наши революционерки. Оседлает тебя кто-нибудь, и ты забудешь о политике!
– Женщина не может быть сверху, – заявил Коба, поняв Клима буквально и завершая разговор. Но последнее слово все же осталось за Климом:
– Еще как может! Сам просить об этом будешь!
2
Через час-другой, зашторив окна и укладываясь спать пораньше, чтобы не поддаться бессоннице светлых стокгольмских весенних ночей, каждый думал о своем. Клим вспоминал горячие губы, ищущие, смелые шаловливые руки и нежные груди одной из «веток Палестины» в русском революционном движении. Коба же оставался во власти своих подозрений. Более того, внезапная непоколебимость его простоватого русачка-соседа в еврейском вопросе породила новую, ранее не занимавшую Кобу проблему, и ее надо было обдумать. Суть же ее выражалась в следующих словах: «Почему у жидов так много защитников. Вот и Клим туда же!»
Коба незаметно погрузился в воспоминания. Он вспомнил, как еще в Гори однажды подбил мальчишек запустить в местную синагогу свинью и запереть ее там. Исполнить намеченное было несложно: свиньи в Гори, по грузинской традиции, не откармливались в свинарниках, а бродили сами по себе, отыскивая пищу, как бездомные собаки, по улицам и огородам, такие же, как собаки, худые и поджарые. Выбор Кобы пал на крупного и крикливого поросенка, принадлежавшего семье Микелашвили. Планируя «операцию», юный гад заранее представлял себе, какие физиономии будут у евреев, услышавших визг ненавистной им твари, когда они придут на утреннюю молитву, как весть об этой шутке облетит весь Гори, и только тогда, чтобы пожать заслуженную славу, выйдет из тени он, Коба, изобретатель и вдохновитель этого подвига.