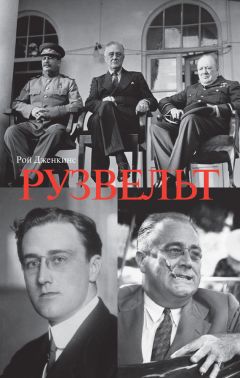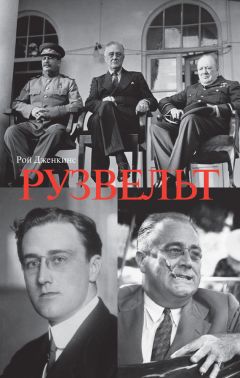По независимому мнению, такие суждения требуют внесения поправок, по крайней мере, в двух отношениях. Во — первых, ФДР и Черчилль «не дали» Сталину ничего из того, чего он сам не получил вследствие военной оккупации, — то, о чем они сожалели, особенно Черчилль, но никоим образом не могли изменить ситуацию. По вопросу Польши, в частности, они выступили в защиту польского правительства, пребывающего в изгнании в Великобритании, которое держалось до конца войны как настоящий преемник того режима, который Франция и Великобритания гарантировали в 1939 году, и в действительности вступило в войну с целью оказать поддержку. Но русские уже начали устанавливать в Варшаве свое так называемое Люблинское правительство, включавшее только обученных Москвой коммунистов и подчиненных им социалистов; ни один из них не имел никакого отношения к Лондону. В Ялте Рузвельту и Черчиллю удалось получить обещание Советского Союза о слиянии двух польских правительств до начала свободных выборов. Обещание осталось только на словах, естественно, и последующие действия СССР не оправдали ожиданий Вашингтона и Лондона.
Во — вторых, эти слова имели значение для ФДР, поскольку давали ему возможность испытать поведение СССР — союзника на фактическое выполнение договоренностей, не в военном контексте, а, скорее, в контексте политических соглашений, даже в тех вопросах, в которых у русских были материальные преимущества. Это неминуемо станет частым контекстом в послевоенных отношениях.
Итак, президент рассматривал Ялту как проверку намерения СССР сохранить добрые отношения в рамках Большой тройки после войны, тем самым укрепляя свои надежды на Совет Безопасности и мир без войны. По словам Чарльза Болена, сотрудника дипломатической службы, который был переводчиком Рузвельта в Ялте, президент четко осознавал, что Ялта является, в определенной степени, тестом. И ФДР был абсолютно уверен, что если СССР провалит этот тест, США будут вынуждены в перспективе столкнуться с чем‑то вроде «холодной войны», которая, собственно, не преминула случиться. Рузвельт считал, что крайне необходимо избежать, если возможно, этого сценария ради спокойствия всего мира. Об этом Болен сообщил Ричарду Нойштадту пять лет спустя в разговоре во время войны в Корее.
К концу марта 1945 года, добавил Болен, Рузвельту стало ясно, что Москва провалила тест, поскольку отказывалась пойти на уступки по поводу Люблинского правительства. По мнению Болена, если бы Рузвельт вернулся в Вашингтон в апреле, он бы пришел к соглашению с Черчиллем об использовании военного присутствия на реке Эльбе, а также близ Праги. Такое решение, равно как и отказ выводить войска из ранее договоренных зон оккупации до тех пор, пока СССР не станет соблюдать условия Ялтинского договора касательно правительства Польши, стали бы хорошим противовесом действиям Сталина. Рузвельт уже готовился в мае отправиться с супругой в Лондон, как только Германия объявит капитуляцию, с целью нанести визит королю с королевой, гостившими в Гайд — Парке как раз перед войной. Болен предполагал, что за этим немедленно последует трехстороннее экстренное совещание, взамен которому позже прошла Потсдамская конференция. О ее результатах, если таковые и были, никому ничего не известно.
Болен по воле случая, вероятно, был последним из представителей дипломатической службы, кто видел президента в марте, незадолго до того, как тот в последний раз уехал из Вашингтона. Причина произошедшего является поучительной и проливает свет на природное чутье Рузвельта как администратора и управленца. Очевидно, что при таких обстоятельствах он был на страже интересов страны, несмотря на усталость, даже в конце жизни. Воспользовавшись болезнью и последовавшей за ней отставкой Корделла Халла, который долгое время был госсекретарем и с которым у президента никогда не было сходства ни в складе характера, ни в программных вопросах, Рузвельт заменил его Эдвардом Стеттиниусом, фотогеничным бизнесменом, который имел опыт работы в правительстве военного времени. Вскоре Болена перевели в личный штат президента при Белом доме на должность помощника президента по связям Белого дома с Госдепартаментом. Очевидно, Стеттиниус был послушным номинальным главой ведомства, тогда как Болен нажимал и отпускал нужные рычаги в Департаменте, чтобы оказать содействие Рузвельту, когда тому это было нужно. ФДР, применяя разнообразные схемы, пытался проделать нечто подобное во время двенадцатилетнего пребывания на посту государственного секретаря Корделла Халла, но редко был доволен исходом, а Халл — никогда. Теперь, наконец, дела пойдут по сценарию, предложенному Рузвельтом. Распространено мнение, что Рузвельт знал о своей скорой кончине. Назначение Болена опровергает сей факт.
В конце марта Рузвельт вновь покинул Белый дом, на этот раз, чтобы отдохнуть в Уорм — Спрингс, где, по мнению его близких, он мог бы восстановить силы, как это случалось прежде. Действительно, казалось, что отдых пошел ему на пользу; президент подлечился и отдохнул. 12 апреля 1945 года пополудни у него в гостях находилась Люси Резерфорд, в это же время приглашенная художница работала над его портретом, а две племянницы Рузвельта благодушно хлопотали по дому. Внезапно Рузвельт пожаловался на «ужасную» головную боль, а затем впал в кому. Через два часа, не приходя в сознание, он умер. Трумэн стал президентом.
В то время как поезд вез усопшего Рузвельта в Вашингтон, где его тело должно было быть выставлено для прощания, вдоль путей в знак уважения выстроились скорбящие. Это напомнило похоронную процессию Авраама Линкольна в 1865 году и Роберта Кеннеди в 1968–м, как и в этих двух случаях, многие скорбящие были темнокожими. Нельзя сказать, что Рузвельт выделял их или заботился об их интересах так же, как два других президента. Однако необходимо сказать, что все, сделанное им для пожилых и безработных в целом, для кропперов [80], членов профсоюза, работников оборонной сферы и для всего народа в общем, вернуло им надежду в будущее. Необходимо вспомнить и все то, что сделала Элеонора Рузвельт в своих статьях, во время путешествий, приемов в Белом доме — все это возымело эмоциональный отклик в душах темнокожих граждан, в отличие от ударов, которые им в разное время нанесли другие президенты.
Шесть месяцев после смерти Рузвельта служат прекрасной иллюстрацией особого американского феномена перехода президентской власти, связанного с трудностями для новоиспеченных президентов, с которыми их опытные предшественники могли бы справиться намного лучше. Трумэн был намерен выступить с резкой критикой в отношении СССР по польскому вопросу, что он и продемонстрировал, когда министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов нанес визит вежливости по пути в Сан — Франциско. Однако вслед за этим советники президента, перешедшие «по наследству» от Рузвельта, поспешили заверить, что их «босс» намерен воздерживаться от каких‑либо действий, а Трумэну посоветовали сменить тон. Болена среди советников уже не было, поскольку он автоматически был отправлен назад, в дипломатическую службу. Не было и Гарри Гопкинса, который в то время находился в больнице. Вместо этого Трумэн прислушивался к адмиралу Лехи, звание которого — начальник штаба Верховного главнокомандующего — производило сильное впечатление. Новый президент принял это звание за чистую монету, не зная, что ФДР использовал Лехи в качестве посыльного в разные военные ведомства и поставщика всех возможных сплетен. Трумэн принимал советы от нового государственного секретаря, который знал только то, о чем ему докладывали его подчиненные, а также почтенного военного министра Генри Стимсона, которого Рузвельт считал давно отжившим свой политический век. Президент искал совета у Джимми Бирнса, человека, которого он намеривался сделать государственным секретарем, что Трумэн вскоре и осуществил, частично по той причине, что Рузвельт брал его на конференцию в Ялту (в качестве утешительного приза за несостоявшееся вице — президентство). Но у Бирнса было мало опыта во внешней политике, и он знал меньше, чем предполагал, о важных диалогах в Ялте (на которые его не допустили).
Мы не можем знать, как бы поступил ФДР на месте Трумэна по польскому вопросу или по вопросам, которые вскоре возникнут — прекращения после капитуляции Германии поставок СССР по программе ленд — лиза; продолжения тех же поставок Великобритании для ведения войны против Японии. Равно как мы не можем знать реакцию Рузвельта на успешные июньские испытания ядерной бомбы на полигоне Аламогордо. Или на неопровержимые доказательства того, что японцы сосредоточили настолько большие силы на острове Хонсю, что вторжение на остров нужно было бы перенести с ноября 1945 года на март 1946–го, и, возможно, не спешить применять атомное оружие, как это сделал Трумэн. Все, что мы знаем наверняка, так это то, что все эти вопросы, так же как средства для Черчилля и продолжение сотрудничества в ядерной сфере, были хорошо известны Рузвельту и, вероятно, были тесно взаимосвязаны, по мнению Рузвельта, но не по мнению Трумэна.