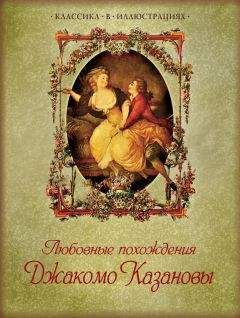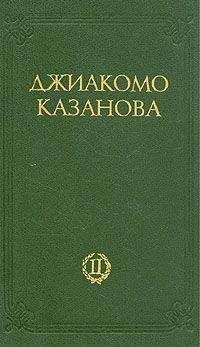– Но король может проиграть.
– В одном случае из десяти.
– Точен ли этот расчет?
– Точен, Сир, как все политические расчеты.
– Они часто ошибочны.
– Прошу меня простить, Ваше Величество. Они никогда не ошибочны, если только не вмешается воля Божья.
– Возможно, я и соглашусь с вами насчет нравственных расчетов, но не нравится мне ваша генуэзская лотерея. Я почитаю ее мошенничеством и не желал бы ее установления, даже если б математически был я уверен, что никогда не проиграю.
– Ваше Величество рассуждает, как мудрец, ибо невежественный народ играет, поддавшись обманчивой надежде.
После такового диалога, который, понятно, делает честь образу мыслей сего великого государя, он чуток дал лиха, но я не растерялся. Пройдя под своды колоннады, он останавливается, оглядывает меня сверху вниз и снизу доверху и, поразмыслив, изрекает:
– А вы красивый мужчина.
– Возможно ли, Сир, что после столь долгой беседы на ученые темы Ваше Величество обнаружило во мне малую тень достоинств, коими славны лишь ваши гренадеры?
Высокая мощная фигура, широкие плечи, цепкие и мясистые, с крепкими мускулами руки, ни одной мягкой линии в напряженном, стальном, мужественном теле; он стоит, слегка наклонив вперед голову, как бык перед боем. Сбоку его лицо напоминает профиль на римской монете, – с такой металлической резкостью выделяется каждая отдельная линия на меди этой темной головы. Красивой линией под каштановыми, нежно вьющимися волосами вырисовывается лоб, которому мог бы позавидовать любой поэт, наглым и смелым крючком выдается нос, крепкими костями – подбородок и под ним выпуклый, величиной с двойной орех кадык (по поверью женщин, верный залог мужской силы); неоспоримо: каждая черта этого лица говорит о напоре, победе и решительности. Только губы, очень яркие и чувственные, образуют мягкий влажный свод, подобно мякоти граната, обнажая белые зерна зубов.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»
Ласково улыбнувшись, он сказал, что, коль скоро лорд-маршал Кейт меня знает, он с ним обо мне поговорит, и с самым милостивым видом приподнял на прощание шляпу, с каковой никогда не расставался.
Дня через три или четыре лорд-маршал сообщил мне добрую весть, что я понравился королю и он сказал, что подумает, какое занятие мне можно приискать. Мне было весьма любопытно, что за место он мне доставит, я никуда не спешил и решился ждать. <…> Погода стояла прекрасная, и прогулка по парку помогала с приятствием коротать день.
Вскоре Кальзабиджи получил от государя дозволение проводить лотерею от любого имени и лишь уплачивать ему вперед шесть тысяч экю с каждого тиража. Тот немедля открыл лотерейные конторы, бесстыдно уведомив публику, что проводит лотерею на его счет. Дела его пошли. Хоть и запятнал он свое имя, но все же это не помешало людям играть, и такой был ажиотаж, что сбор принес ему доход почти в сто тысяч экю, с помощью коих уплатил он добрую часть долгов; еще забрал он у своей любовницы обязательство на десять тысяч экю, вернув ей наличными. Жид Эфраим взял капитал на хранение, уплачивая ей шесть процентов годовых.
После сего удачного тиража Кальзабиджи нетрудно было найти поручителей на миллион, поделенный на тысячу паев, и лотерея благополучно шла своим чередом еще два или три года, но под конец сей муж все-таки обанкротился и отправился умирать в Италию. Любовница его вышла замуж и воротилась в Париж.
В ту пору герцогиня Брауншвейгская, сестра короля, пожаловала к нему с визитом вместе с дочерью, на которой через год женился кронпринц. По этому случаю король прибыл в Берлин, и в ее честь в маленьком театре Шарлотенбурга была представлена итальянская опера. Я видел в тот день короля Прусского, одетого в придворный наряд: люстриновый камзол, расшитый золотыми позументами, и черные чулки. Выглядел он весьма комично. Он вошел в зрительную залу, держа шляпу под мышкой и ведя под руку сестру; все взоры были обращены на него, одни старики могли вспомнить, что видели его на людях без мундира и сапог.
На сем спектакле я был изрядно удивлен, увидав, что танцует знаменитая Дени. Я не знал, что она состоит на службе у короля, и, пользуясь правом давнишнего знакомства, решил завтра же отправиться к ней с визитом в Берлин.
Когда мне было двенадцать лет, матушка моя должна была ехать в Саксонию и отослала меня на несколько дней в Венецию с моим добрейшим доктором Гоцци. Мы пошли в театр, и более всего удивила меня там восьмилетняя девчушка, которая в конце представления с невероятной грацией танцевала менуэт. Девочка, дочь актера, игравшего Панталоне, так меня пленила, что я потом зашел в уборную, где она переодевалась, чтобы выразить ей мое восхищение. Я был в сутане, и она удивилась, когда отец велел ей встать, чтоб я мог поцеловать ее. Она повиновалась с превеликим изяществом, а я был весьма неловок. Радость столь меня переполняла, что не мог я удержаться и, взяв из рук стоявшей там торговки украшениями колечко, приглянувшееся девочке, но бывшее слишком для нее дорогим, преподнес его ей. Тогда, сияя от благодарности, подошла она, чтоб снова поцеловать меня. Я дал торговке цехин за кольцо и воротился к доктору, ждавшему меня в ложе.
На душе у меня было прескверно, ибо цехин тот принадлежал ему, моему дорогому наставнику, и я, хотя и чувствовал себя бесповоротно влюбленным в хорошенькую дочку Панталоне, еще сильнее чувствовал, что поступил глупо во всех отношениях: во-первых, потому, что распорядился деньгами, мне не принадлежащими, во-вторых, потому, что потратил их как простофиля, получив один лишь поцелуй.
Поелику назавтра надлежало мне держать отчет о деньгах перед доктором, и не зная, где занять цехин, всю ночь я не мог уснуть; назавтра все открылось, и матушка сама дала цехин моему учителю; но мне до сих пор смешно вспомнить, как я сгорал тогда от стыда. Та же самая торговка, что продала мне в театре кольцо, заявилась как-то к нам домой, когда все сидели за столом. Показав украшения, каковые все сочли чрезмерно дорогими, она стала меня нахваливать, сказав, что я не счел дорогим колечко, кое преподнес Панталончине. Сего было достаточно, чтобы мне был устроен допрос с пристрастием. Я думал прекратить дознание, сказав, что одна любовь была причиной моего проступка, и уверяя матушку, что таковой случился в первый и последний раз. При слове любовь все лишь засмеялись и принялись так жестоко надо мной насмехаться, что я твердо решил, что такого никогда больше не повторится, но всякий раз горько вздыхал, вспоминая о малышке Дзанетте; ее так назвали в честь моей матери, ее крестной.