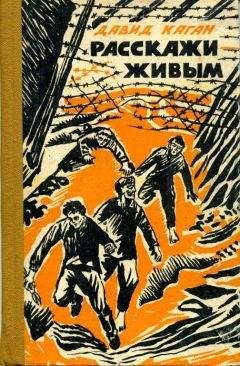После побега перестали водить людей из лагеря на работу. Отправка все ближе... Сейчас уже говорят о полной ликвидации лагеря.
Нога понемногу заживает, начал передвигаться на костылях. Перевязки делают через три-четыре дня. Перед дверьми перевязочной такой же, как и ты, калека. Не в новость же это, здесь, в девятом корпусе, почти все дырявые. Но отчего-то в душе родство к нему, доверие, хотя ты его и не знаешь. Обоим знакомы запах собственной крови и гноя, боль при операциях, перевязках. Поэтому, что ли? Конечно, и это сближает, но главное в другом. Здесь, за проволокой, особенно остро чувствуешь, что раненый — парень свой, близкий.
Уже несколько раз так получается, что я ложусь на перевязку вслед за одним и тем же больным. У него высокий, почти квадратный лоб, живой, внимательный взгляд, рыжие волосы. Рана в средней трети голени, как и у меня, несколько длинных рубцов вдоль кости. Несмотря на худобу, в фигуре чувствуется сила. Широкоплечий, ноги немного кривые, идет, наклонясь вперед. Перевязку ему делает почти всегда Свешников.
В некоторые дни уже по-настоящему тепло, все, кто может двигаться, выходят на маленький двор позади корпуса. Некоторых больных товарищи выносят на носилках. Вышел и я. Гордон, надвинув на лоб фуражку с зеленым околышем, ходит вдоль забора. Остановился, около меня, спрашивает о здоровье, но по лицу его видно, что он думает о чем-то другом и не слышит ни своего вопроса, ни ответа. На мой вопрос о положении на фронте скороговоркой рассказывает, что знает. Чтоб не обращать на себя внимания, вошли в подъезд. С жадностью слушаю об отступлении немцев.
— Боюсь, что при отступлении гитлеровцы уничтожат пленных, — говорит он, помолчав минуту.
— Не думаю... Доказано, что чем больше подлеца бьют, тем он боязливей становится. И с фашистами так же происходит. На уничтожение пленных они не решатся.
— Дай бог! — Гордон торопливо уходит в коридор, а я поднимаюсь на второй этаж.
Подходя к перевязочной, вижу низенького окровавленного человека в телогрейке и ватных брюках. Во многих местах одежда разорвана, из дыр клочьями торчит вата. Он рукой зажимает правую щеку, между пальцев сочится кровь.
— Иди, иди, я потом, — говорю ему. Где-то я его видел? Через минуту вспомнил: в Гродно. Это он рассказывал про побег Лешки-летчика... Вслед за ним захожу в перевязочную.
Степан Иванович вместе с фельдшером помогают пленному снять одежду. Из раны на щеке медленной струйкой течет кровь за воротник рубашки, капает на пол.
— Мерзавцы! — ругается Пушкарев, стаскивая телогрейку.
— Говорили... будут держать ее... а как я отбежал.
— Подожди, потом расскажешь, — перебил его Пушкарев, — сначала перевяжем.
Но тот не слышит и продолжает:
— ...к-к-ак отбежал, о-они и спустила со-ба-ку.
Сняли брюки. На левом бедре клок кожи висит кровавым лоскутом. Ватные брюки помешали псу, рана оказалась неглубокой.
После перевязки пленный рассказывает собравшимся в коридоре, как на нем тренировали собаку.
— Недавно я встретил Нагодуя. Прошел быстро, не козырнул ему. Он меня остановил, спросил фамилию, из какого корпуса. Вечером пришли полицаи, привели в комендатуру. Нагодуй смеется: у тебя, говорит, ноги быстрые, поможешь вахтерам учить собак охранять лагерь. Скажут бежать — беги! Не послушаешь — палок получишь, а может, что и похуже.
— Вчера они не спускали овчарку. Бежали за мной, а ее держали на ремне. Сегодня с первого прыжка свалила меня с ног. — Он нервно оглянулся, ему показалось, что собака тут, где-то рядом.
Меня и раньше интересовал подвал здания, а в эти дни все чаще думаю, как бы скорее разведать, что там. Слышал ли от кого или сам догадываюсь, что здания лагеря сообщаются между собой. Вышел в коридор, спустился вниз. Дверь под лестницей не заперта, в пробое торчит палочка. Иногда в подвал спускается Юзеф-кочегар, проверяет трубы. Спускаясь, зажигает фонарь. Фонарь необязательно — решил я. Достать немного керосина и сделать коптилку не трудно: на случай отсутствия света в коридоре висит керосиновая лампа.
На следующий день рано утром незаметно отлил в бутылочку керосин, вставил марлевый фитиль, вдетый в пробку. Сейчас нужно сделать так, чтобы дверь была все время приоткрыта, тогда никто не обратит на это внимания. Проходя во двор, вытащил палочку из пробоя. Дверь медленно открылась, из-за нее потянуло затхлой сыростью.
Вечером, когда уже можно не ожидать прихода в корпус кого-либо из полицаев или из комендатуры, спускаюсь в подвал. Несколько минут привыкаю к темноте, прислушиваюсь. Зажег коптилку, опираясь левой рукой о стену, прошел несколько шагов. Ноги ступают по влажному грунту. Показался вход в тоннель. Оказывается, подвал не сплошной, вдоль тыльной стороны здания — узкий, высотой немногим больше метра, тоннель для отопительных труб и нужно нагнуть голову, чтобы не удариться о них. Кое-где они протекают, и в могильной тишине раздаются одинокие звуки падающих капель. Вода закрывает пол сантиметров на десять, постепенно глубина становится больше. Прошел еще шагов пятьдесят. Это уже дальше нашего корпуса. Но где? По пути в шестой корпус или в четвертый? Продвигаюсь осторожно, чтоб от резкого движения не погасла коптилка. Ноги коченеют в холодной воде. Все так же в мерцающем свете тускло блестит асбестовая обмотка на трубах, в некоторых местах она намокла и обвисает.
Впереди посветлело. Тоннель сообщается с широким низким помещением. Тут тоже много воды. Через подвальное окно падает свет с территории лагеря. Окно-то без решетки! Догадываюсь, что нахожусь в подвале шестого корпуса. Погасив коптилку, приближаюсь к окну. Проволока ограды совсем близко, метров семьдесят или сто. Трава около проволоки будто причесана, нигде ни одного камня. Но ограда — вот она! Направо виден угол четвертого, туберкулезного корпуса. Жаль, что туда хода нет, он совсем рядом с оградой... Ну, хватит на сегодня! Удовлетворенный, возвращаюсь обратно, иду ощупью, долго не зажигая коптилку. Вылез почти ползком, прислушиваясь, не идет ли кто по коридору. В палате размотал мокрые портянки, подвесил их за изголовьем так, чтобы не бросались в глаза. День прошел недаром, разведка удалась! Подземный ход, подвальное окно в шестом корпусе и близкая от него ограда, — ведь это готовый план побега!
Тинегин пришел часам к девяти.
— Спите? — спросил он. — Последние деньки здесь мы живем.
— Почему?
— Говорят, первый этаж будут освобождать. Уплотнить корпус хотят.
— Зачем?
— Черт их знает. Наверно охранять легче.
— А куда переведут?