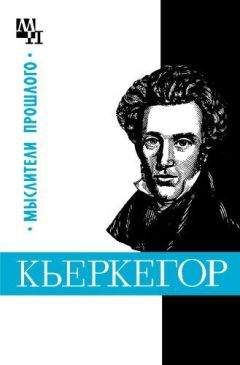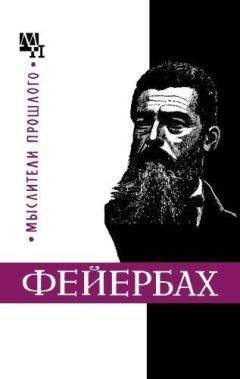По видимости, такая постановка вопроса ведет к политическому безразличию, требует аполитичности. Может показаться, что религиозное самосознание противостоит здесь всякой политической активности, интересу к политике вообще. Многочисленные высказывания Кьеркегора как будто предназначены для такого вывода. Духу времени, когда всюду царит политика, когда «все понимание людей так решительно направлено на земное, политическое, национальное» (6, 33, 154), противопоставляется святой дух, дух божий. Верующему, устремленному не ко временному, а к вечному, нет дела до политической возни, лишь отвлекающей внимание современников от всевышнего. Пусть конечное, относительное, преходящее не засоряет сознание верующего, «пусть поменьше заботится он о внешнем, а думает о высших благах, о душевном мире, о спасении своей души...» (6, 16, II, 216).
Кьеркегор далек от мысли основать свою политическую партию или вступить в какую-либо партию: «Быть членом партии у меня нет никакой склонности» (6, 16, II, 333). Что общего имеет политика с «вечной истиной»? «Политика на земле начинается и на земле остается» (33, 96), религия же связывает все надежды и идеалы с потусторонним миром и потому с иронией относится к политической мышиной возне. «Отношение к богу — единственное, что имеет значение» (7, 305). Презрение к политике — прямой и неизбежный вывод из презрения к миру. И Кьеркегор упорно, настойчиво проповедует этот вывод. Я, или душа, поучает он в «Назидательной речи» 1844 года, обретает себя самое не через свое отношение к миру сему, не через познание, опыт, надежду и т. п. независимо от того, имеют ли они утвердительный или отрицательный характер, а через погружение в любовь к богу (см. 46, 61). И это презрение к миру политически конкретизируется: «Не бойтесь мира, нищеты, горя, болезни, нужды, превратностей и людской несправедливости... а бойтесь себя самого, бойтесь того, что может убить веру...» (6, 26, 72). Умрите для мира, призывает он, для этого «подлого, развращенного, злополучного мира, годного лишь для мерзавцев и негодяев» (6, 34, 310). Никакой заботы о мирских делах. Ни малейшей попытки изменить мир. Ни слова, призывающего к борьбе против царящих в нем зла и несправедливости. «И так сижу я здесь. Снаружи все в движении, всех их будоражит идея национальности... А я сижу в своей тихой комнатке (скоро меня будут поносить за мое равнодушие к национальному делу); я знаю лишь одну опасность — грозящую религиозности» (цит. по: 57, 139). Бог отчуждает от мира, замыкает человека в самом себе. «Жить перед лицом бога» — ведь это не что иное, как жить наедине с самим собой. «...Я, — пишет молодой Кьеркегор, — так сказать, врос в божественное, так нераздельно привязан к нему, пусть хоть весь мир развалится» (7, 45).
Презрение к миру неминуемо перерастает в презрение к людям, к человеческому роду, к человечеству. «Бог — это как раз, говоря по-человечески, злейший враг человека, твой смертельный враг», — восклицает Кьеркегор в одном из номеров своего листка «Мгновение» (6, 34, 175). Интровертированная личность, существующая в субъективистской самоизоляции, чужда всякой социальности и общественности. Бог недоступен тому, чьи интересы и заботы сосредоточены на «идее государства, социальности, общины, общества» (6, 16, II, 254). Достигнуть единения с богом возможно, лишь презрев человеческий род, а не приобщившись к роду. Религиозная этика асоциальна, антисоциальна. «...Чем больше этическое развитие, тем меньше остается времени для всемирно-исторического» (6, 16, I, 152). Вот размышление «этически высокоразвитой личности» по поводу эпидемии холеры: «Значение холеры состоит в том, что она поучает людей тому, что они личности, чего не делает ни война, ни другие бедствия, которые скорее их объединяют, тогда как зараза раздробляет их на личности» (цит. по: 50, 194). Можно ли после этого уверять, как это делает Коллинз (4, 191), будто взгляды Кьеркегора не индивидуалистичны и не антисоциальны?
И знать того я чувства не хочу,
Которое зовут любовью люди.
Лишь божью знаю я любовь...
...
А к роду вялому, тупому — лучшей
Любви, чем ненависть, и быть не может.
Эти слова ибсеновского Бранда как нельзя более созвучны настроению, вдохновляемому Кьеркегором (21, 3, 369 и 374). Его религиозный фанатизм — не что иное, как мистифицированный эгоизм, разрывающий личность и общество, закрепляющий антагонизм индивидуального и социального. «Личность— такова категория духа, духовного пробуждения, как нельзя более противная политике...» (цит. по: 51, 100).
Теософически мистифицированный эгоцентризм Кьеркегор доводит до антигуманистического кульминационного пункта.
Гуманность — вот бессильное то слово,
Что стало лозунгом для всей земли!
...
Пожалуй, скоро по рецепту мелких.
Ничтожных душ все люди превратятся
В апостолов гуманности! А был ли
Гуманен к Сыну сам господь Отец?
(21, 3, 392—393).
С полным основанием датский исследователь Кьеркегора В. Андерсен утверждал, что учение его — это «радикальный разрыв с гуманизмом во имя христианства» (цит. по: 55, 129). Как же иначе можно охарактеризовать позицию философа, который требует от человека «действовать не в интересах человека, а во славу божию» («Дневник», 1852; цит. по: 6, 253), во славу того, кто является «злейшим врагом человека»?
Но так ли уж аполитична аполитичность Кьеркегора? Ведь его презрение к роду человеческому кристаллизуется в презрение к народным массам. Что может быть в этом отношении выразительнее его афоризма о евангельской заповеди любви к ближнему: «Я никогда, однако, не читал в Священном писании заповеди: люби массу...» (6, 33, 105)? Его дневники и сочинения буквально усеяны пренебрежительными, враждебными выпадами против народных масс. Жоливэ нисколько не преувеличивает, говоря об «охлофобии» Кьеркегора (64, 74).
«Я, — провозглашает Кьеркегор в своем главном философском труде, — не намеревался писать книгу, говорящую от имени миллионов, миллионов и миллиардов» (6, 16, II, 332). Напротив, массы как раз и являются его политической мишенью. Кьеркегору совсем не по душе библейская поговорка: глас народа — глас божий, и он саркастически указывает на то, что Кромвель ухитрился использовать ее в своей политической пропаганде (6, 16, II, 318). О нет, твердит он, масса отнюдь не голос правды: «Существует мировоззрение, согласно которому там, где масса, там и правда... Но есть и другое мировоззрение, согласно которому повсюду, где масса, там и неправда...» (6, 33, 99). Это второе мировоззрение — его мировоззрение, согласно которому от масс все зло, весь хаос, угрожающий нам (7, 259). Из всех видов тирании для него самый страшный — тирания масс. «Из всех тираний народоправие — самая мучительная, самая бездушная, неизбежный упадок всего великого и возвышенного... Народоправие — это подлинное изображение ада» (9, 245—247). Прошли те времена, когда борьбу приходилось вести против тиранов; в будущем все подлинные реформаторы, согласно Кьеркегору, должны ополчаться не против правительств, не против властей предержащих, а против тиранических вожделений масс (7, 504 и 267). Асоциальность Кьеркегора раскрывается как злобная антинародность.