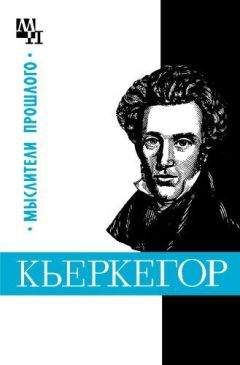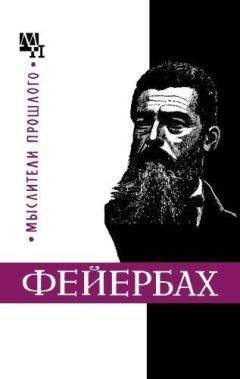«Я, — провозглашает Кьеркегор в своем главном философском труде, — не намеревался писать книгу, говорящую от имени миллионов, миллионов и миллиардов» (6, 16, II, 332). Напротив, массы как раз и являются его политической мишенью. Кьеркегору совсем не по душе библейская поговорка: глас народа — глас божий, и он саркастически указывает на то, что Кромвель ухитрился использовать ее в своей политической пропаганде (6, 16, II, 318). О нет, твердит он, масса отнюдь не голос правды: «Существует мировоззрение, согласно которому там, где масса, там и правда... Но есть и другое мировоззрение, согласно которому повсюду, где масса, там и неправда...» (6, 33, 99). Это второе мировоззрение — его мировоззрение, согласно которому от масс все зло, весь хаос, угрожающий нам (7, 259). Из всех видов тирании для него самый страшный — тирания масс. «Из всех тираний народоправие — самая мучительная, самая бездушная, неизбежный упадок всего великого и возвышенного... Народоправие — это подлинное изображение ада» (9, 245—247). Прошли те времена, когда борьбу приходилось вести против тиранов; в будущем все подлинные реформаторы, согласно Кьеркегору, должны ополчаться не против правительств, не против властей предержащих, а против тиранических вожделений масс (7, 504 и 267). Асоциальность Кьеркегора раскрывается как злобная антинародность.
Сказав «А», Кьеркегор говорит и «Б»: за антинародностью непосредственно следует воинствующий антидемократизм. «Демократия,— для него, — самая тираническая форма правления» (6, 16, II, 334). Аполитичный обитатель башни из слоновой кости ведет неустанную пропаганду против любых демократических движений и начинаний, даже в наиболее ограниченных либеральных проявлениях. «Свобода, равенство и братство» для Кьеркегора — лживые, фальшивые, обманчивые лозунги. «Да здравствует человеческая глупость! Вот что можно назвать свободой»— гласит запись в 1848 году (7, 298). Есть только один вид свободы — внутренняя свобода, свобода воли, свобода быть самим собой. Но такая свобода несовместима с равенством. Свобода исключает равенство, она закрепляет неравенство. Реально только одно равенство — равенство перед богом, перед которым все мы равны в своем неравенстве. «Претендовать на решение проблемы равенства среди людей, оставаясь в области земного... значит обречь себя на то, чтобы не сделать ни шагу вперед: этот путь закрыт навсегда...» (5, Х2, А356).
Участие народа в государственном управлении, даже парламентарное государство, основанное на избирательной системе, невыносимо для Кьеркегора. Он отвергает правительство, основанное на голосовании, на подсчетах «на кнопках» (6, 33, 128), ограниченное законодательным собранием. Он распинается в своей любви к простому человеку, к «низшему классу» (6, 33, 86), но заклинает против того, чтобы дать ему волю, приобщить к власти, учредить демократическую форму правления. Его страшит «четвертое сословие, т. е. все люди». «С того момента, как четвертое сословие добьется своего, станет очевидным, что светская власть невозможна» (6, 36, 205—207). Для Кьеркегора нет ничего хуже демократии. Демократия — «тираническая форма правления», «когда все хотят властвовать и, кроме того, принудить каждого участвовать в управлении...» (6, 16, II, 334— 335). Единственная достойная государственная власть не от народа, а от бога. «Из всех государственных форм наилучшая — монархическая (6, 16, II, 334), абсолютная наследственная монархия».
Кьеркегор «никогда не участвовал в политических и социальных битвах, происходивших вокруг него... Он не верил в пользу неожиданных реформ и революционных восстаний. И он никогда не верил в такого рода демократию, которая состоит в том, что допускает большинство решать все вопросы... Стало быть, ясно, что он был консерватором», — такую политическую характеристику Кьеркегору дает его биограф Холенберг (58, 277). Но можно ли назвать это аполитичностью? Не была ли его «аполитичность» оборотной стороной его политического консерватизма и антидемократизма?
«Элементарная научная добросовестность не допускает отрицания крайнего политического консерватизма Кьеркегора» (27, 302), и подавляющее большинство исследователей при всем различии их оценки его воззрений сходятся в том, что «сам он был настолько консервативным, насколько это вообще возможно...» (42, 9). «Он, — по словам Ясперса, — не хотел иметь ничего общего ни с социалистами, ни с либералами, ни с какими политиками и агитаторами, предлагающими программы изменения социальных порядков» (60, 304). Да и как могло быть иначе? «Тот, кто порицает всякое вмешательство во внешнюю действительность как отречение от внутренней сущности, тот должен санкционировать существующие отношения такими, каковы они есть» (27, 302).
Впрочем, Кьеркегор совершенно не скрывал своего политического консерватизма, а широко его афишировал. В его «Дневнике» мы находим откровенное признание в том, что все его творчество «есть защита существующего, единственное, что можно делать, не попирая истины» (7, 523). Он заявляет об этом и публично: «Я никогда не был и не участвовал в оппозиции, стремящейся свергнуть правительство» (6, 33, 14—15). В период либерально-реформистских движений 30-х годов он решительно выступал против этих движений. Его статьи, опубликованные в газете «Копенгагенская летучая почта» в 1836 году, не оставляют в этом никаких сомнений.
Еще большее ожесточение вызывают у Кьеркегора революционные идеи и движения, вспыхнувшие в разных странах Европы в 1830, особенно в 1848 годах. Катастрофическим событием он считает не поражение революции, а самое ее возникновение. Ничего, кроме жестокости, насилия, варварства, он не видит в революционном восстании против жестокости, насилия и варварства существующего строя. Особенно страшит его то, что «в тот самый миг, по тому же колокольному звону, по которому буржуазия решила захватить власть, поднялось четвертое сословие» (цит. по: 76, 271).
Только такой мракобес, как Брен, противопоставляя христианство Кьеркегора безбожному гуманизму Фейербаха, приветствовавшего революцию, может заявлять, что величайшим заблуждением является утверждение о контрреволюционности и реакционности политических убеждений Кьеркегора (см. 39, 36 и 41). А что скажет Брен по поводу следующих высказываний Кьеркегора? «Зло нашего времени — это не существующее с его многими недостатками; нет, зло нашего времени как раз в этом жестоком влечении, в этом заигрывании с реформаторскими вожделениями...» (6, 27—29, 240). «Сокрушать принцев, пап — это не трудно по сравнению с борьбой против масс, против тирании равенства, против низости отсутствия духовности» (7, 343). И наконец, что может быть выразительнее такой контрреволюционной тирады: «Когда какая-нибудь мятежная натура вступает в борьбу со своим временем, она продает свою связь с богом, хотя и не за деньги» (6, 16, I, 126)?