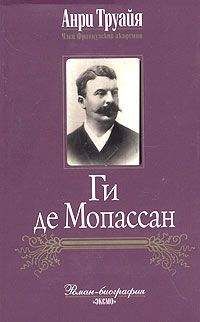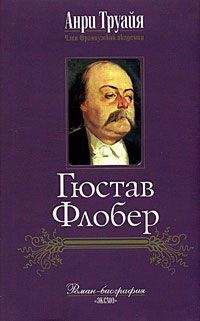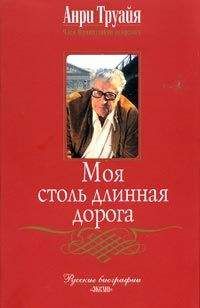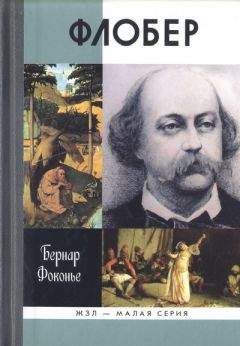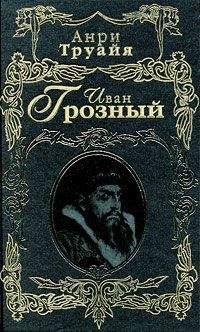Сочиняя четвертое письмо Мопассану, она приняла правила игры и, дрожа от радости, облачилась в одеяния мудреца по имени Жозеф Савантен.[61]
«Я воспользовался, милостивый государь, досугом святой недели, чтобы вновь перечитать полное собрание ваших сочинений… Вы, конечно, большой весельчак. Я никогда не читал вас целиком и подряд, впечатление поэтому, можно сказать, свежее, и оно таково, что вы чересчур злоупотребляете описанием этих… этого… этого акта, благодаря которому существует мир. Не знаю, какому богу я поклоняюсь, но вы, безусловно, поклоняетесь тому… тому странному символу, который чтили в Древнем Египте.
Черт возьми! Есть от чего потерять покой моим лицеистам и возмутиться всем монастырям христианского мира.
Что касается меня, а я вовсе не отличаюсь стыдливостью и читал самые предосудительные сочинения, меня смущает, да, сударь, смущает ваше тяготение к этому грубому акту, которое г. Александр Дюма-сын называет любовью. Это может перерасти в мономанию, что будет прискорбно, ибо вы богато одарены и ваши рассказы о деревенской жизни хор(ошо) написаны…
Мне известно также, что вы написали „ЖИЗНЬ“ и что эта книга несет на себе печать глубокого чувства отвращения, грусти и уныния. Это чувство, которое уравновешивает мощь ваших мускулов, время от времени всплывает наружу в ваших сочинениях и внушает мысль, что вы – высшее существо, страдающее от жизни. Вот что поразило мое сердце. Но это, я думаю, лишь подражание Флоберу.
В итоге мы – порядочные простофили, а вы – замечательный шутник (видите, как хорошо быть незнакомым друг с другом) и морочите нам голову своим одиночеством и длинноволосыми существами…»
Этот намек на влияние Флобера свидетельствовал о проницательности незнакомки и задел Мопассана, как если бы кто-то проник в заповедный уголок его сада. Продолжение письма откровенно иронично:
«…вы ненавидите музыку – возможно ли?
Вас бы следовало угостить ученой музыкой! Ваше счастье, что вы еще не написали книгу – книгу, в которой будет фигурировать женщина, да.
…Чревоугодие, женщины! Но, мой юный друг, берегитесь! Вы переходите на вольности, а мое звание классного наставника запрещает мне следовать за вами по этому опасному пути.
…Вы серьезно утверждаете, что предпочитаете красивых женщин всем искусствам? Вы смеетесь надо мной.
Простите за бессвязность этого послания и не оставляйте меня долго без ответа.
Засим, великий пожиратель женщин, желаю вам развивать мышцы, о которых не принято писать, и верблюжью подушку, а я остаюсь со священным трепетом вашим преданным слугой.
Савантен Жозеф».
Послание одновременно развеселило Мопассана и вывело из себя. Для ответа он выбирает грубоватый тон развеселых лодочников – завсегдатаев «Лягушатни»:
«Мой дорогой Жозеф, мораль вашего письма, очевидно, та, что, раз мы совсем не знаем друг друга, не будем стесняться и поговорим откровенно, как два брата.
И я готов первым подать пример полной откровенности. Мы дошли до такой точки, что можем говорить друг другу „ты“, не правда ли? Итак, я говорю тебе „ты“ и наплевать, если ты недоволен…
…Знаешь ли, для школьного учителя, которому доверено воспитание невинных душ, ты говоришь мне не особенно скромные вещи! Как? Ты ни чуточки не стыдлив? Ни в выборе книг для чтения, ни в своих сочинениях, ни в своих словах, ни в своих поступках, да? Я это предчувствовал.
…И ты полагаешь, что это меня забавляет? И что я смеюсь над публикой? Мой бедный Жозеф, под солнцем нет человека, который скучал бы более меня. Нет ничего, что стоило бы затраты сил или минутного утомления. Я скучаю без передышки, без отдыха и без надежды, потому что ничего не хочу и ничего не жду; что же касается того, чтобы оплакивать обстоятельства, которые я не могу изменить, – с этим я подожду, пока не выживу из ума. Так как мы откровенны друг с другом, то предупреждаю тебя, что это – мое последнее письмо, потому что переписка мне уже начинает надоедать.
К чему продолжать ее? Меня она не забавляет и не обещает ничего приятного в будущем.
Итак?
У меня нет никакого желания познакомиться с тобой. Я уверен, что ты безобразен, и вдобавок нахожу, что послал тебе уже достаточно автографов вроде этого. Известно ли тебе, что они стоят от десяти до двадцати су за штуку, в зависимости от содержания? У тебя есть по крайней мере два по двадцать су. Счастливчик!
Кроме того, я намереваюсь снова покинуть Париж, так как скучаю в нем гораздо сильнее, чем где-либо. Я поеду в Этрета, чтобы переменить обстановку, а также потому, что в данный момент смогу побыть там в одиночестве.
Больше всего люблю быть в одиночестве. Так я, по крайней мере, скучаю молча.
Ты спрашиваешь меня, каков мой точный возраст. Так как я родился 5 августа 1850 года, то мне еще нет 34. Это тебя удовлетворяет? Не собираешься ли ты попросить у меня фотографию? Предупреждаю, что не пришлю.
Да, я люблю красивых женщин, но бывают дни, когда они мне страшно противны.
Прощай, старина Жозеф, наше знакомство было очень неполным, очень коротким. Но что делать? Может быть, и к лучшему, что я не видел твоей физии, а ты моей».
Это письмо Мария восприняла как ушат грязной воды, выплеснутый прямо в лицо. Задыхаясь от гнева, она делает запись в своем дневнике 18 апреля 1884 года: «Как я и предвидела, между моим писателем и мною все кончено. Его четвертое письмо грубо и глупо». Но не думайте, что она воздержится от ответа тому невеже, который в ответ на ее булавочные уколы осыпает ее выражениями в стиле ломового извозчика:
«Ваше письмо слишком сильно благоухает. Вовсе не было надобности тратить столько духов, чтобы заставить меня задохнуться. Так вот что вы нашли ответить женщине, виноватой лишь в том, что она проявила неосторожность? Красиво, ничего не скажешь.
Без сомнения, Жозеф во всех отношениях не прав, именно поэтому он и чувствует себя задетым. Но он находился под властью легкомыслия, почерпнутого из ваших книг, как если бы это был напев, от которого никак не можешь избавиться.
Тем не менее я его строго порицаю, ибо нужно быть уверенным в любезности противника, прежде чем рискуешь шутить таким образом.
Притом, мне кажется, вы могли бы унизить его с большим остроумием.
А теперь скажу вам одну невероятную вещь, которой вы, без сомнения, никогда не поверите, и так как узнаете о ней слишком поздно, то она имеет только исторический интерес.
Скажу вам, что и с меня довольно нашей переписки. После вашего четвертого письма я охладела… Пресыщение?
Впрочем, я обыкновенно дорожу лишь тем, что от меня ускользает. Я, значит, должна была бы теперь дорожить вами? Но это не совсем так.