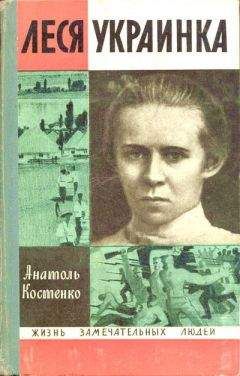АРЕСТЫ В КИЕВЕ. ПОЗОР ЛИЦЕМЕРНОЙ ЛИРЕ!
Не очень-то приветливо встретил Лесю родной край. Тяжелая утрата в Софии, а вслед за нею смерть бабушки Елизаветы Ивановны в Гадяче, утомительная дорога со многими пересадками — все это пошатнуло и без того слабое здоровье. К тому же еще и мать под впечатлением смерти любимого брата затосковала так, что всерьез расхворалась и слегла.
Да и сама Леся чувствовала себя худо. Вновь нога — уже в который раз — изводила ее бессонными ночами и изнуряющими днями, и так неделями, а то и месяцами. В такие периоды она не в состоянии была браться за перо, а мысли и чувства сжимали в тиски, заводили в безвыходные лабиринты. Нередко среди хаоса мыслей, чаще всего ночью, Леся пыталась вызвать видения; напрягала воображение, чтоб увидеть какой-нибудь мираж. Она бы ему поверила, как когда-то, в старину, люди верили в чудеса. «И почему это люди так боятся галлюцинаций и безумия, — говорила она в таких случаях, — я бы порой дорого заплатила за них…»
Досадно, бесконечно обидно было ей, больной, в окружении подрастающих, взрослеющих сестер и братьев. Все они, как и родители, очень любили и почитали Лесю за ее ум, доброту и справедливость. И разумеется, не могли не сожалеть о том, что судьба так жестоко обошлась с нею. Сочувствие даже самых близких людей оскорбляло ее, выводило из равновесия. Она стремилась быть для младших достойным примером мужества, их опорой в жизни. «Для вас, мои дорогие сестры и братья, — говорила она, — я хотела бы быть энергичной, крепкой, с ясным взглядом, с сильными руками, способными к постоянной и путевой работе, с нормальным сердцем и здоровой душой — тогда бы я не была вынуждена что-либо скрывать от вас и вам было бы на что посмотреть, а сейчас…»
В годину тяжких испытаний Леся не уходила в себя, не переставала глубоко интересоваться событиями общественно-политической жизни. «Ко всем моим бедам в последнее время, — писала она в Софию, — прибавились еще и общественные беды: в Киеве было много обысков и арестов, полиция ворвалась даже в университет и там обыскала лабораторию, кабинет одного профессора. После этого начали брать студентов, между прочим, схватили одного нашего доброго знакомого,[28] что повергло нас в уныние и печаль, которые не рассеялись и поныне, так как товарищ наш находится в заключении и до сих пор рыщут по городу «летучие отряды». Это уже третий погром в нынешнем году!»
Наступление царизма на развивающееся освободительное движение побудило Лесю к активному протесту. Она выступает с острыми, как стальной клинок, стихами против темных разнузданных сил господствующих слоев, против произвола правительства:
О, ночи царь!
Наш самый лютый враг! Недаром ты боишься
Цепей кандальных музыки железной!..
А чем же ты заглушишь дикий голос
Сплошного хаоса, и голод, и беду,
И те отчаянные вопли: «Света! Света!»?
На них всегда, как будто эхо в далях,
Отважный, вольный голос отзовется:
«Да будет тьма!» Но этого ведь мало,
Чтоб хаос заглушить, чтоб умер Прометей.
И если ты силен безмерной силой,
Последний дай приказ: «Да будет смерть!»
Для борьбы с врагом необходимо оружие, безжалостный меч, разящий насмерть. Так родились огненные, страстные строки одного из лучших творений Леси Украинки:
Слово, оружье мое и отрада,
Вместе со мной тебе гибнуть не надо.
Пусть неизвестный собрат мой сплеча
Метким клинком поразит палача.
Лязгнет клинок, кандалы разбивая,
Гулом ответит тюрьма вековая.
Встретится эхо с бряцаньем мечей,
С громом живых, не тюремных речей.
Пересылая эти стихи Ивану Франко для печати, Леся замечает: «Как видите, я не складываю своего последнего оружия. Вообще я сейчас очень зла и недобра, и, хуже всего, не хочу стать добрее, не стоит!»
В это время произошло событие, которое вызвало у Леси внезапную и острую вспышку гнева и ярости.
Осенью 1896 года Николай II с царицею совершал путешествие по Европе: Австрия, Германия, Англия и, наконец, Париж. Официальная Франция принимала русского царя с большой помпой, причем писатели, артисты, композиторы воздавали ему не меньше почестей, нежели официальные лица. Русскому государю посвящались льстивые, хвалебные стихи, песни, здравицы. Самодержавная дипломатия и пропаганда сумели хорошо подготовить этот вояж, прославляя царя как гуманного человека — отца всех народов великой империи, как первого благодетеля и защитника интересов всех слоев населения. Словом, не царь, а сама добродетель…
В Париже присутствовавшие на торжественной встрече с царской четой французские художники приветствовали ее криками «Vivat!».
Зажатое железными тисками полицейской цензуры общественное мнение России вынуждено было молча переносить этот позор. Правда, несколько раньше, когда бельгийские студенты прислали приветственную телеграмму студентам петербургского Лесного института по случаю коронации Николая II, прогрессивная часть студентов института возмутилась этим приветствием и в ответ направила протест в редакцию венской социал-демократической газеты «Арбайтер цайтунг», возможно, что и в «Реформу». Этот протест в переводе на украинский был напечатан И. Франко в журнале «Життя i слово».
А теперь, во время визита царя во Францию, прозвучал мужественный голос Леси Украинки: писательница переслала за границу написанную по-французски статью «Голос русской узницы» с просьбой содействовать ее опубликованию во французской социалистической прессе. «А Вас прошу узнать, — обращается она к Л.М. Драгомановой, — адрес «La Reforme» или какой-нибудь другой французской газеты радикального или социалистического направления… и срочно отослать туда эту штуку… Я опоздала немного с этой посылкой, да если времена у нас теперь пес plus ultra[29] подлые, приходится возвращаться к спартаковскому методу переписки. «Да, были хуже времена, но не было подлей».[30] А все-таки мне хочется, чтобы из России дошел хотя бы один протест против такой профанации поэзии и талантов, которую допустили французы в этом году в Версале… «Молчание — знак согласия» — так думали, должно быть, те русские студенты, которые послали протест бельгийским студентам против поздравления с коронацией…»
В своем памфлете[31]«Голос русской узницы» поэтесса всю силу возмущения и гнева обрушила на тех французских поэтов и артистов, которые лакействовали перед царем: «Позор лицемерной лире, льстивые струны которой наполняли аккордами залы Версаля… Позор вольным поэтам, которые перед чужеземцем бряцают добровольно надетыми на себя цепями. Неволя еще мерзостней, когда она добровольна. Позор вам, актеры, когда вы своими кощунственными устами произносите имя Мольера, который некогда своей ядовитой насмешкой подтачивал страшного великана, сотворенного во Франции покойным королем-солнце. Призрак этого короля, столь бледный накануне, покраснел от радости, услышав ваши песни в Париже, этом городе-цареубийце, каждый камень которого кричит: «Долой тиранию!»