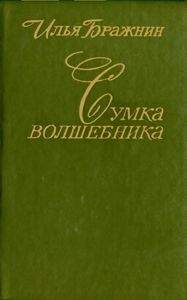Описания, относящиеся к одному и тому же факту (смерти), как видите, совершенно различны. Уже первые слова авторов (у Толстого — «Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто»; у Яновского — «И утро было позднее...») говорят о резко различном языковом строе в обоих случаях. Предельная простота, с одной стороны (в первой фразе описания Толстой подчёркивает, что всё происходит «обыкновенно и просто»), и приподнятый стилевой строй, с другой стороны (первая фраза описания у Яновского начинается с часто повторяющегося «и» — «И утро было позднее...»), проступают совершенно очевидно, и в каждом случае — это стилевой строй всего произведения.
Все частности целого можно и должно держать в своём языковом строе, в языковом строе всего романа, рассказа и т. д.
Всё это относится не только к авторским описаниям, но в равной мере и к речи персонажей, к диалогам. Они входят в общее повествование как голоса живых людей, не нарушая общего тона в такой же мере, в какой каждый из нас, выступающий на каком-нибудь собрании, своей индивидуальной интонацией не нарушает общего стиля собрания.
Речевые оттенки персонажей подчинены целому. В «Степане Разине» Чапыгина, скажем, разные персонажи говорят каждый своё и по-своему, но вы не спутаете речь ни одного из них с речью любого из персонажей, скажем, романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Эта разница ощутима не только в произведениях, рисующих разные эпохи, как взято для наглядности в данном примере, но и в произведениях, относящихся к одной эпохе. Маленький человек — какой-нибудь «мученик четырнадцатого класса» Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» Пушкина и тот же коллежский регистратор у Гоголя говорят разно, всегда несколько авторски, оставаясь в то же время самими собой и имея индивидуальный строй речи. Они, как и всё в повествовании, приспособлены к общему речевому строю, взяты как бы той стороной своей, которая больше и лучше прилаживается к целому. Кроме того, индивидуальные голоса, давая ритмическую перемену повествованию, как бы поддерживая ритмическую волну, вовсе не сбивают общего курса литературного корабля. Каждый пассажир ведёт себя сообразно своей индивидуальности, но все они входят в организованный на корабле порядок. Корабль ведёт по курсу, в конечном счёте, воля и властный голос капитана, сколько бы ни кричали пассажиры.
Разноречия тут никакого нет. Пусть каждый персонаж говорит по-своему, но при его речи есть авторский жест, авторская реплика, указание на интонацию, походку, психическое состояние говорящего персонажа, одновременное описание обстановки и многое другое, что соединяет речь персонажа невидимыми нитями с целым и прочно держит общий стилистический строй.
Таковы четыре основных положения, обязательных, как мне кажется, при работе над словом: подчинение слова мысли, возможно более полное слияние формы описания с сущностью описываемого, прозрачность речевого и стилевого строя и, наконец, плотность, поточность, прочность, связность языковой ткани.
Добавить к этому остаётся немногое. Язык — оружие гибкое, тонкое, острое. Чтобы оно не затупилось и не потускнело, его нужно чистить и оттачивать целую жизнь. Как же, однако, это делается? Как уверенная Рука мастера делает его разящим? И где границы словесного мастерства, его пределы?
Что касается границ и пределов, то тут всё ясно — границ мастерства, как и пределов, не существует, и это непреходящая радость мастера. Всегда есть возможность, а у настоящего мастера и потребность, писать лучше, чем пишешь, тоньше, проникновенней, искусней, Касательно же того, как оттачивается оружие слова и что для достижения высокого мастерства потребно, то тут ни малейшей ясности нет, да, пожалуй, и не может быть.
Разве что всяческие сопутствующие мысли и ещё аналогии. Кстати, вот одна из них.
Существует известный анекдот об иностранце, который, дивясь на изумительные газоны лондонского Гайд-парка, допытывался у местного старожила, чем и как достигается столь прекрасный и ровный рост травы, такой живой цвет, такая упругость, что она не мнётся ни от беганья детей по ней, ни от лежанья взрослых.
— О, это очень просто, — спокойно ответил флегматичный абориген иностранцу. — Для того чтобы поддерживать газоны в должном состоянии, ничего особенного делать не надо. Следует только, как это мы и делаем, в течение трёхсот лет каждый день подстригать и поливать газон — вот и всё.
Рецепт лондонского старожила, мне кажется, пригоден не только для парковых газонов, но и для садов словесности. Для должного состояния языкового хозяйства надо только каждый день в течение стольких лет, сколько их отпущено тебе для жизни в искусстве, поливать слово собственным потом, изострять и оттачивать его всем умением, какое удастся приобрести за эти годы упорной работой над словом. Кроме того, необходимо отличнейше знать язык, любить его страстно, самозабвенно, непреходяще. Впрочем, это далеко не всё, что потребно для успеха в словесной работе. Нужно и ещё очень многое, чего никто не знает, а может только угадывать. Помочь этому угадыванию нужного и лучшего могут только талант, напряжённый труд и вечное негасимое желание преодолеть непреодолимое.
Если всё это налицо, тогда может посчастливиться злую поговорку «Язык мой — враг мой» обратить в добрую: «Язык мой — друг мой».
Песня приходит в срок к каждому человеку. Но у каждого свой срок. К одному она приходит тогда, когда он ещё в колыбели, к другому поспевает только на похороны. Она наконец пришла, но тот, для кого она звучит, уже не слышит её.
Это самый жестокий случай запоздания милой и желанной. гостьи. Но не знаю, лучше ли тот случай, когда живой человек глух к песне.
Говоря так, я имею в виду не физическую глухоту. Блестящий поэт Ронсар был глух. Глухой Бетховен написал Девятую симфонию. Музыке нужны не только уши. Нужней душа.
Первые песни, которые прозвучали в моей душе и оставили в ней заметный след, были Песни Верстака.
Они пелись старшим братом за работой.
Он опиливает только что отлитое обручальное кольцо или полирует его. В руках его напильник или другой инструмент. Он поёт. У брата отличный слух, редкостная память, и он знает великое множество песен. Я сижу рядом и тоже что-нибудь делаю, помогаю. А когда делать нечего, я седлаю вальц для прокатки металлических слитков в пластинки или проволоку и отправляюсь в воображаемое путешествие. Вальц на своих растопыренных тонких ногах — это волшебный конь. Я мчу на нём, как Ашик-Кериб на своём волшебном коне. О Ашик-Керибе я только что прочитал в сказке Лермонтова, и я повторяю его маршрут. Я мчусь над горами и Долами, и вместе со мной мчится песня. По углам мастерской залегли чёрные таинственные тени. Колдовской зелёный глаз колбы уставился в ночь. Брат поёт: