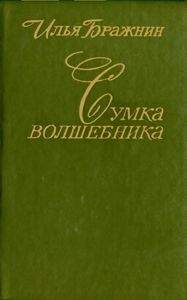Заключительные строки стихотворения утверждают: если птица не запоёт — значит, нарисованная вами картина никуда не годится. Если же птица запоёт — значит, картина хороша, вы можете ставить под ней свою подпись.
В этом стихотворении, переведённом М. Кудиновым, всё мне кажется прекрасным и верным. Картина сказочна и правдива одновременно. И это понятно: ведь речь идёт о самой редкой птице — об искусстве.
Очень важное следствие вытекает из «законов нарисованной птицы». Чтобы птица запела, нужно научиться рисовать свежесть ветра, ласку солнца и звон мошкары в зное. А это трудно.
Понятно, что этим вовсе не исчерпывается то, что необходимо в искусстве. Есть вещи и поважней: жизнь, люди, события века, борьба. Но это я выношу за скобки, как само собой подразумевающееся.
А сейчас очень важна мне эта удивительная колдовская птица, нарисованная кистью или написанная словом, но поющая. Мне важны и неотделимы от неё свежеть ветра, ласка солнца и звон мошкары в зное.
Повторяю, писать это очень трудно, но без этого колдовство словом состояться не может.
А начаться это колдовство в душе человека может очень рано. Я не сгущал красок и ничего не переиначивал в том, что действительно было, рассказывая, как писатель начал рождаться ещё в десятилетнем парнишке, сидящем на ученической скамье в начальной школе.
В подкрепление своей правды сошлюсь на старого опытного педагога Андрея Митрофановича Топорова, обучавшего ещё отца космонавта номер два Германа Титова. В одной из статей, напечатанной в «Литературной газете», он прямо говорит: «Школьник тоже маленький писатель».
Ну конечно же так. Все способности и склонности взрослого заложены в ребёнке, в том числе и способность к колдовству словом. Может статься даже, эта способность — особенно. Мальчишки и девчонки очень любят носиться с воображаемым, а это ведь почти постоянное состояние пишущего.
В городке Пушкине под Ленинградом, против здания бывшего Лицея, стоит памятник Пушкину работы скульптора Роберта Баха. Это один из лучших памятников писателям, какие я знаю. На простом цоколе очень хорошо найденных пропорций стоит скамья со сквозной резной спинкой. На ней — молодой Пушкин в распахнутом лицейском мундирчике. Он облокотился о спинку скамьи и задумался. Вся фигура его удивительно легка. Кажется, вот сейчас прервётся набежавшая задумчивость и резвый лицеист сорвётся с места, чтобы мчаться, лететь в то прекрасное далёко, которое только ему одному и видится.
Каждое крупное произведение искусства заключает в себе некую колдовскую силу, некую тайну неведомого и необъяснимого очарования. Тайна эта у всякого художнического создания своя. У Венеры Милосской она скрыта в поразительной гармонии пропорций, у Джоконды — в неразгаданной улыбке, у микеланджеловского Давида — в пленительном мужестве взрастающей юности.
У памятника Баха, с которого начался разговор, тайна очарования — в поражающей лёгкости сидящей фигуры, в одухотворённости, в окрылённости всего облика юноши Пушкина. Вес бронзы преодолён чудодейственным искусством скульптора. Нет её «тяжкого многопудья». Нет давящей власти материала над художником, и это и есть проявление силы и свободы художника.
Памятник превосходен, и прежде всего, пожалуй, тем, что вовсе не похож на памятник. Это просто живой Пушкин, который присел на скамью в лицейском саду и задумался. Здесь мы его случайно и застали.
И хорошо, что мы его застали именно здесь, потому что именно здесь
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Эти строки, взятые из первой строфы восьмой главы «Евгения Онегина», высечены в камне на цоколе памятника, и они здесь как нельзя более к месту.
Но музы являются не только великим. Они гостят у всех, кто открывает им настежь двери и сердце.
Почти каждый прозаик начинал со стихов. Я не был. исключением. Впрочем, ещё раньше самостоятельных стихов был как бы приготовительный класс стиховой школы, живая стихотворческая игра. Затеял её мой старший брат Давид, хотя это было вовсе не его изобретение. Называлась игра буриме, что значит в переводе с французского «рифмованные концы». Пришла она к нам из парижских салонов галантного века и заключалась в том, что участники её писали стихи на заданные рифмы.
Впрочем, подобными играми забавлялись во Франции ещё в пятнадцатом веке. Знаменитая «Баллада поэтического состязания в Блуа» Франсуа Вийона начинается строкой «От жажды умираю над ручьём», заданной хозяином празднества в замке Блуа принцем Карлом Орлеанским.
В нашей игре была задана не целая строка, а только окончания, рифмы каждой из строк стихотворения. К этим заранее заданным рифмам приписывалось и приспосабливалось всё содержание стихотворения — у каждого из играющих иное.
Игра эта вовсе не была пустой забавой. Условия игры требовали словесной ловкости, обширного словаря и отличного владения материалом. Можно было писать что угодно и о чём угодно, но нельзя было уклониться от обязательного окончания строки. Таким образом, допускалась полная внутренняя свобода, и в то же время требовалась строгая самодисциплина, а кроме того, и находчивость, и остроумие, и многое другое, что делало игру и интересной, и далеко не бесполезной.
Начали мы игру скромно, задав участникам её всего одно четверостишие.
Игра, по безмолвному уговору между всеми участниками, сразу принята была именно как игра. Излишняя серьёзность и чопорность с самого начала были сняты характером задаваемых рифм. Для первого конкурса были заданы рифмы: «шило», «рот», «мило», «капот»; для второго: «лет», «ноги», «кисет», «боги».
Конкурсов буриме было у нас множество. Во всех я принимал самое деятельное участие, но лаврами победителя не был увенчан ни разу.
Потерпев несколько неудач на конкурсах буриме, я решил всё же доказать, что «в механике и я чего-нибудь да стою», и стал сочинять стихи без стеснительных конкурсных условий. Но и тут особых успехов на первых порах я не оказал.
И всё же я не бросал своих трудов на ниве стихосложения и продолжал усердствовать. К четырнадцати годам я сочинил наконец первое своё самостоятельное законченное стихотворение.
Первые стихи обычно бывают либо возвышенно чувствительные, либо пейзажные — про берёзки, про тополя, про закат. Я решительно порвал с этой обветшалой традицией и сразу выступил с гражданственно-обличительной тематикой. Я клеймил порок, и в частности курение табака.