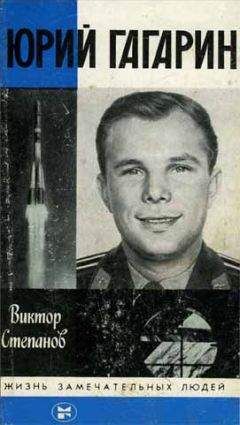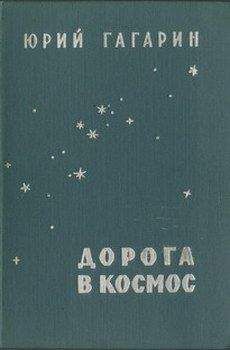Юрия приземляли заботы экзаменов. Всего их предстояло сдать восемь. Первая оценка — «отлично». Все восемь выпускных отметок встали за ней, не занижаясь.
Аттестация направлялась в Москву: «Представление к присвоению звания лейтенант курсанту Гагарину Юрию Алексеевичу. За время обучения в училище показал себя дисциплинированным, политически грамотным курсантом. Уставы Советской Армии знает и практически их выполняет. Строевая и физическая подготовка хорошие. Теоретическая — отличная. Летную программу усваивает успешно, а приобретенные знания закрепляет прочно. Летать любит, летает смело и уверенно. Государственные экзамены по технике пилотирования и боевому применению сдал с оценкой «отлично». Материальную часть самолета эксплуатирует грамотно. Училище окончил по первому разряду. Делу Коммунистической партии Советского Союза предан».
Пока ожидали приказа министра обороны о присвоении лейтенантских званий, наслаждались в «голубом карантине». Замечательная пора, когда уже пошита офицерская форма, не нужно ходить на занятия и строем в столовую. Но нет, не давало покоя подзвездное спутниковое «бип-бип». Из рук в руки передавали газету с подчеркнутыми кем-то строками:
«Для перехода к осуществлению космических полетов с человеком необходимо изучить влияние условии космического полета на живые организмы…»
И еще не опомнились от одной, как 3 ноября другая новость. Запущен спутник с собакой Лайкой на борту. Собака летела по орбите, как бы за первым спутником. Это симпатичнейшее существо с умными доверчивыми глазами, с внимательно-чутким надломом уха, — а за собакой всегда идет человек… Значит, близко то, что еще вчера представлялось фантастикой.
В канун праздника 6 ноября их произвели в офицеры. Начальник училища вручил Юрию офицерские погоны и диплом.
«Настоящий диплом выдан Гагарину Юрию Алексеевичу в том, что он… в 1957 году окончил полный курс названного училища по специальности эксплуатация и боевое использование самолетов и их оборудования».
Ему присваивалась квалификация пилота-техника.
Окончание училища по первому разряду давало право выбора места службы. Юрий назвал Север.
А Лайка продолжала летать. Пробовали рисовать космический корабль с человеком на борту. Юрию Дергунову попался в подшивках журнал «Знание — сила» № 10 за 1954 год. Пришел возбужденный, прихлопнул ладонью по старым страницам. С серьезным видом сказал лейтенантам;
— Знаете, кто из вас полетит? Гагарин! Вот на 22-й странице… Только там он выведен под псевдонимом. Ну и, естественно, некоторый камуфляж в биографии. Чтобы раньше времени не зазнался. Читаю: «Главный конструктор и бортовой инженер корабля… Ю. Н. Тамарин». Биография: «Юрий Николаевич Тамарин родился в г. Смоленске в 1934 году. Родители его — партизаны — были замучены фашистами. Мальчик воспитывался в детском доме, учился в школе ФЗО при авиационном заводе. Работая токарем, заочно окончил институт…» Юра, ну сказки, разве это не ты? Старт намечен на 25 ноября 1974 года в десять часов ноль-ноль минут. А вот что пишет так называемый Тамарин: «Двадцать пятого ноября долгожданный день нашего старта. Это будет итог многих лет напряженного труда и творческих дерзаний, вершина, восхождение на которую было начато свыше семидесяти лет назад нашим замечательным соотечественником Константином Эдуардовичем Циолковским… Основоположник реактивной техники и воздухоплавания Циолковский еще в самом начале двадцатого века указал единственные средства для достижения такой огромной скорости — жидкостный ракетный двигатель. В этом величайшая заслуга Циолковского перед человечеством. Без его открытия наш полет был бы невозможен». Юра, признавайся, не твои ли это слова? Разве не правда, что Тамарин — это Гагарин?
Дергунов оглядел лейтенантов. Верят — не верят? И у Юрия застыла улыбка: «Вот отмочил, дружище!» Но у Дергунова еще сюрприз:
— А вот телеграмма с борта корабля: «Старт прошел превосходно… Продолжаем полет по инерции… Любуемся родной Землей. Видим ее всю целиком. На нашем небе это великолепный шар по диаметру в 30 раз больше Солнца. Западное полушарие в тени, в Азии — день. На освещенном серпе различаем очертания советского Дальнего Востока, берегов Китая, Индии…» Товарищ лейтенант Тамарин, как это все позволите понимать?
К Дергунову кидаются с разных сторон, вырывают журнал из рук.
— Это не я, — перекрикивает всех Юрий, — это ошибка!
— Господа офицеры, — спохватывается вдруг Дергунов, пряча журнал, — мы же опаздываем на свадьбу! Кареты поданы, прошу на выход!
Шумной толпой, да, толпой, а не строем выходят из парадных дверей, впервые не предъявив увольнительных. Нарочно идут пешком, чтобы показать себя в новенькой форме.
У Горячевых двери уже нараспашку — шум, гвалт, объятия. Шинели одна на другую — горой. Валя выходит навстречу, неузнаваемая в свадебном платье.
— Раньше нравилась мне в голубом, а теперь ты мне нравишься в белом, — каламбурит, как всегда, Дергунов.
— Нет, — поправляет с наигранной ревностью Юрий, — это платье не под венец, это платье под цвет Полярного круга. — И впервые целует Валю при всех.
— Горько! Горько!
А она и вправду будет несладкой, их грядущая жизнь…
Вот здесь действительно ощущалась громадность земного шара. Еще когда добирались поездом, глядя из вагонного окна, он подумал, что они спускаются как бы со взгорка: деревья становились все ниже ростом, снег из мягкого и пушистого превращался в крошку стекла, и ночь густела не то что с каждыми сутками, а с каждым часом. А когда, сделав последний вздох, паровоз остановился на конечном вокзале, показалось, будто над ними раскинулась, впуская в суровый свой сказочный мир, небесная арка: голубые всполохи прожекторно мотались по небу. Юрий не знал, что это начиналось северное сияние.
Тепло вагонного купе вмиг улетучилось. Было жаль, что так быстро кончался путь; ехали втроем — Валя Злобин, Юра Дергунов, Юра Гагарин, дружные, спорые на песню оренбуржцы.
«Нам золотыми крыльями на плечи погоны лейтенантские легли», — повторял Дергунов чьи-то строки.
И правда — начинающаяся жизнь виделась в галунной позолоте, в блеске звездочек на погонах, в искрящейся голубизне высокого неба, прочерченного острым крылом сверхбыстрого самолета.
А их принимала в свои объятия ночь, близкий океан леденяще овеивал лица, и парадные шинели, и ботинки, до блеска надраенные еще в Москве, показались неловкими, несуразными — люди вокруг толпились в меховых куртках, в унтах. Ночь… Дневная ночь? Бывает и такая? На часах тринадцать ноль-ноль, а лица едва различимы в сумраке, все залито тусклым неоновым светом. И впервые за всю дорогу шевельнулось сомнение: правильно ли поступил?