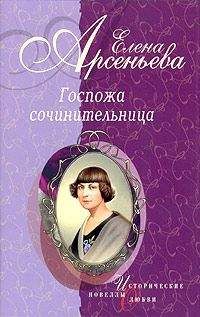Революции — нет.
Диктатуры пролетариата — нет.
Социализма — нет.
Советов, и тех — нет.
Мне хотелось бы предложить рабочим всех стран следующее. Пусть каждая страна выберет двух уполномоченных, двух лиц, честности которых она бы верила (или ни в одной стране не найдется двух абсолютно честных людей?). И пусть они поедут инкогнито (даже полуинкогнито!) в Россию. Кроме честности нужно, конечно, мужество и бесстрашие, ибо такое дело — подвиг. Но не хочу я верить, что на целый народ в Европе не хватит двух подвижников!
И пусть они, вернувшись (если вернутся), скажут «всем, всем, всем»: есть ли в России революция? Есть ли диктатура пролетариата? Есть ли сам пролетариат? Есть ли «рабоче-крестьянское» правительство? Есть ли хоть что-нибудь похожее на проведение в жизнь принципов «социализма»? Есть ли Совет, т. е. существует ли в учреждениях, называемых Советами, хоть тень выборного начала?
В громадном нет, которым ответят на все эти вопросы честные люди, честные социалисты, вскроется и коренной, основной абсурд происходящего.
Пока он не вскрыт, пока далекие рабочие массы и социалистические партии верят плакатам, которыми большевики завесили границу России (я говорю о верящих наивно, анео тех, кто ради собственного интереса, личного властолюбия и т. п. притворяется, что верит) — пока это так — до тех пор бесцельно осведомлять о тех фактах русской жизни, которых большевики скрыть не могут. Они оправданы.
Террор, — но ведь революция!
Поголовный набор, принудительный, — но ведь на «Советскую» власть нападают, принуждают воевать!
Голод и разруха, — но ведь блокада! Ведь буржуазные правительства не признают «социализма»!
Все нищие, — но ведь равенство! (Равенства тоже нет, ибо нигде нет таких богачей, таких миллиардеров, как сейчас в России. Только их десятки — при миллионах нищих.)
Уничтожение науки, искусства, техники, всей культуры вместе с их представителями, интеллигенцией, — но ведь диктатура пролетариата! Все это — наука, искусство, техника — должно быть пролетарским, а интеллигенция, кроме того, — контрреволюционеры.
Нет свободы ни слова, ни передвижения, и вообще никаких свобод, все, вплоть до земли, взято «на учет» и в собственность правительства, — но ведь это же «рабоче-крестьянское» правительство, и поддержанное всем народом, который дает своих собственных представителей — в Советы!
Да, надо повалить основные абсурды. Разоблачить сплошную, сумасшедшую, основную ложь.
Основа, устой, почва, а также главное, беспрерывно действующее оружие большевистского правления — ложь.
Для новорожденных пуговиц, вроде Эстонии, Латвии и т. д., они держат в одной руке заманчивую конфетку «независимости», другой протягивают петлю и зовут: «Эстоша, пойди в петельку! Латвийка уже протянула шейку!»
Перед далекими великими и глупыми (оглупевшими) державами они будут бряцать красным золотом и помавать мифическими «товарами» (?). Все это объявлено и расписано. Таки будет.
Порою изумляешься: и как это они воюют? Как это они, раздетые, наступают? Ведь лютая зима! Вот сегодня 26° мороза по Реомюру!
Но и не воевать, сидеть дома, здесь, не легче. Даже когда топим печку, выше 7° не подымается. Мерзнут руки, все, за что ни возьмешься, — ледяное. Спим почти одетые. Окна к утру покрываются ледяной корой.
Я давно поняла, что холод тяжелее голода. И все-таки, опять повторю, голод и холод вместе — ничто перед внутренним, душевным, духовным смертным страданием нашим — единственным.
А теперь коснусь, кстати, того, чего я намеренно здесь еще не касалась.
Церкви.
Очень много можно тут сказать. Но я ограничусь самыми краткими словами и фактами. И эти-то факты упоминать тяжело.
Следует, говоря о данном моменте, разделить так:
1) Православие, Церковь — иерархия.
2) Народ.
3) Тактика большевиков.
Летнее письмо патриарха, унизительное и заискивающее, к «Советской власти», «всегда бережно относившейся» и т. д. Большевики с упоением напечатали его во всех газетах, но не преминули снабдить своими победноликующими комментариями. На униженную просьбу «не расстреливать священников» ответили просто ляганьем. С другой стороны — здешний митрополит, при той же, лишь более скрытой политике, ходит пешком, одемократился и благосклонен к интеллигентному кружку некоторых священников вроде А. В. и Е., пустившихся в новшества и делающихся все популярнее. Св. А. В. (мы его знали еще студентом) склоняется к кликушеству (говорю резко) — им поработилась даже Анна Вырубова, знаменитая «дочь Гришки Распутина» когда-то. Измученная интеллигенция влечется туда же.
Священники простецкие, не мудрствующие, — самые героичные. Их-то и расстреливают. Это и будут настоящие православные мученики.
Народ? Церкви полны молящихся. Народ дошел до предела отчаяния, отчаяние это слепое и слепо гонит его в церковь. Народ русский никогда не был православным. Никогда не был религиозным сознательно. Он имел данную форму христианства, но о христианстве никогда не думал. Этим объясняется та легкость, с которой каждый, если ему как бы предлагается выход из отчаянного положения — залгаться в коммунисты, — тотчас сбрасывает всякую «религиозность». Отрекается, не почесавшись. (Даже Е. удивлялся.) Невинность ребенка или идиота. Женщины в особенности. Внешние традиции у многих под шумок хранятся. Так — любят венчаться в церкви. Не жалеют на это денег и очень хитрят. Ну, а кому все равно нет выбора, все равно отчаяние и некуда идти — идут в церковь. Кланяются, крестятся — молятся, в самом деле молятся, ибо Кому-то, Кого не знают, несут душу, полную темного отчаяния.
Большевики сначала грубо наперли на Церковь (истории с мощами), но теперь, кажется, изменяют тактику. Будут только презирать, чтобы ко времени, если понадобится, и Церковь использовать. Некоторые, поумнее, говорят, что потребность «церковности» будет и должна удовлетворяться «их церковью» — коммунизмом. Это даже по-чертовски глубоко!
Почти невыносимо говорить об этом! Страшно.
Слава Богу, около пятнадцати лет я его знаю, и несмотря на всю (мою) дружбу — это было в корне исключено между нами, в голову не приходило, ни мне, да и, очевидно, ни ему.
Первые дни в Варшаве Савинков еще ничего не начинал — да и Пилсудский был в отъезде, — а предстояло решительное с ним свидание. Собственно, оно уже было ясно. Предстояла большая ломка для Савинкова, — еще так недавно бывшего Колчако-Деникинцем, большие, может быть, унижения. Савинков это понимал, был неспокоен. До этого свидания с Пилсудским избегал какого-нибудь «оказательства» в польском обществе. Бывал только у нас. Ко мне проявлял особое внимание, и за глаза — ив глаза. Это было естественно — не я ли верно хранила всегда его для нас, не я ли одна писала ему, и прежде — и в последнее время, не я ли особенно настаивала на его приезде, на его нужности здесь?