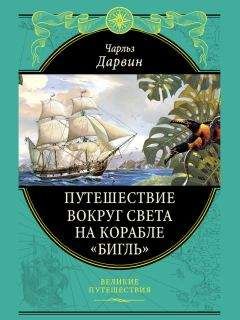Да, Эдвин был для Керри постоянной заботой, но он был для нее и радостью. А в жизни Эдвина, как я знаю от него самого, она занимала совершенно особое место. Он запомнил ее как веселого, изобретательного и азартного товарища его игр и затей. Ее искрящиеся золотыми искорками глаза то и дело зажигались огнем, и она восклицала: «Что я придумала, ты только послушай!»
А выдумок у нее было хоть отбавляй. Она учила его петь и играть на скрипке и всегда с интересом читала страницы из романа и эпической поэмы, которые он пытался написать, хотя и подвергала его опусы строгой критике. Романы она, правду сказать, не жаловала. Однако на самом деле ничто не доставляло ей такого удовольствия, как чтение хорошего романа, ибо в глубине души была удивительно человечна, и все проявления человеческой природы вызывали у нее жгучий интерес, в чем она боялась себе признаться. Но по религиозным канонам, на которых она была воспитана, чтение романов было так же греховно, как танцы и карточная игра, и двойственность ее натуры сказывалась уже в том, что она могла от души смеяться над «Пиквикским клубом», а затем испытывать легкое чувство вины от того, что сочла этот роман забавным. Она пошла на компромисс: пусть в ее доме и будут романы, но только классические, и этому ее решению ее дети обязаны тем, что у них сызмала сформировался хороший вкус. Эдвин в семь лет уже зачитывался Диккенсом, Теккереем и Вальтером Скоттом, которые попадают в руки других детей много позже, и, отведав этой добротной пищи, находил других, меньшего дарования писателей, пресными и безвкусными.
У Эндрю было семеро детей, но он понятия не имел, как держать или как пеленать ребенка. Он родился святым, его делом были проповеди, и он был выше повседневных забот. Даже в собственном доме над ним витал дух отрешенности. Никому из его детей и в голову бы не пришло попросить его завязать шнурок или застегнуть пуговицу. Я слышала, как Керри, смеясь, рассказывала: «Когда я заболевала и ему приходилось немного помочь Ван Ама с детьми, это было смеха достойно. Он вечно водил их в одежках, надетых задом наперед. Они выглядели очень странно: сразу и не разберешь, пришли они или уходят!»
Он напоминал святого Павла, с которым его часто сравнивали, — человек до глубины души религиозный, преданный своему долгу, как он его понимал, провозвестник, в чем-то самоотверженный и бесстрашный, но совершенно неспособный снизойти до того, что его не интересовало. Для детей он всегда был почти абстрактной фигурой, существующей за пределами их мира. Он был очень строг с ними, в тех, конечно, случаях, когда вообще их замечал, и ревностно пекся об их праведности, но, поскольку он мало их понимал, ему все никак не удавалось убедить их в том, что праведность — наилучшее достояние человека. Отстраненной добродетели отца они предпочитали материнскую порывистость, неожиданные вспышки гнева и столь же быстрое нежное раскаяние, ее тесные объятия, ее шутки и ее веселые глаза.
И все же, чтобы отдать должное Керри, надо заметить, что она ни разу в жизни не усомнилась в первенстве Эндрю и важности принятой им на себя задачи. Как ни раздражали ее порой житейские трудности, она, мне кажется, думала про себя, что в его мистицизме есть, что-то для нее недоступное, и ей с нами, детьми, остается только следовать за ним. Я смутно помню «отцовский Новый Завет», как мы его называли. Эндрю обладал тонким литературным чутьем и с давних пор был недоволен тем, как переведена на китайский Библия. С годами в его уме вызрела мысль самому перевести с греческого на китайский хотя бы Новый Завет. Он был превосходным знатоком греческого языка и, когда молился наедине сам с собой, всегда имел под рукой текст Библии на греческом и на иврите. Я помню поблекший позолоченный обрез карманного издания греческой Библии, которую он всегда носил в нагрудном кармане, не забывая переложить ее из снятого костюма в другой. Когда он уснул вечным сном и мы уложили его в могилу, мы поняли, что ему не будет покоя, если его перевод не останется с ним навсегда, и мы пристроили их бок о бок.
Он начал работать над этим переводом по вечерам и в короткие дни летнего от пуска, и с ходом времени на письменном столе в его кабинете все выше становилась стопка бумаги, исписанной его угловатыми китайскими письменами. Одним из членов нашей семьи стал сгорбленный от старости ученый китаец, который по просьбе Эндрю часто давал ему советы относительно стиля и построения фраз.
И вот настал день, когда работа была завершена и готова к печати, но на это не было денег, кроме разве что тех, которые мы могли выкроить из нашего скромного бюджета. Керри и Эндрю обсудили это: она думала о детях, он о своей книге. Она сказала:
— Подумай, Эндрю, ведь дети и так плохо одеты, куда же хуже; я и без того все латаю и перекраиваю, и мне не хотелось бы ограничивать их в еде.
— Я знаю, — с тоской и отчаяньем вымолвил он.
Она глянула на него, увидела, что творится у него на душе, и, помолчав, сказала:
— Что-нибудь придумаем. Каждый месяц будем откладывать по пять долларов и обойдемся тем, что останется. Я буду экономить каждый грош.
В него будто заново вдохнули жизнь, хотя с тех пор детям чудилось, что отцовский Новый Завет был чем-то вроде глубокого колодца, куда проваливались то игрушки, о которых они мечтали, то долгожданное новое платьице, то книги, по которым они стосковались. Сколько раз дети с надеждой спрашивали: «Мама, а когда папа кончит Новый Завет, мы сможем купить, что нам нравится?» Ее взгляд становился суровым, хотя они явно были здесь ни при чем, и она твердо отвечала: «Конечно. Каждый из нас сможет купить то, в чем он больше всего нуждается».
Но купить нам так ничего и не удалось, потому что она умерла прежде, чем Эндрю кончил нянчиться со своим Новым Заветом. Он публиковал издание за изданием, раз за разом совершенствуя текст, так что Новый Завет делал Керри все беднее и беднее. Он лишил ее и того узенького пространства, которое отделяет горькую нищету от элементарного комфорта и которое у нее раньше было. И все же она никогда не позволяла детям вслух выражать свое недовольство. Она сделала свой выбор и посвятила избранной цели свою жизнь, хотя порой ей случалось открыто бунтовать.
Для детей, впрочем, не составляло труда понять разницу между отцом и матерью. Когда Конфорт была маленькой, она долгое время не могла понять: почему отец каждое утро является к завтраку с тремя отметинами на своем высоком белом лбу. За утро они постепенно исчезают, но когда он первый раз садится за стол и склоняет голову, чтобы испросить Божьего благословения, они красные и очень четкие. Наконец она набралась храбрости и спросила Керри: