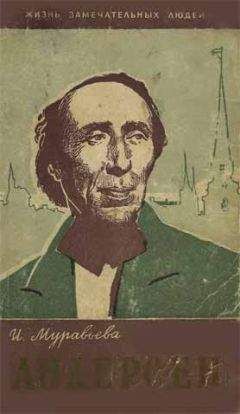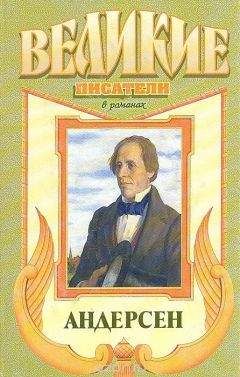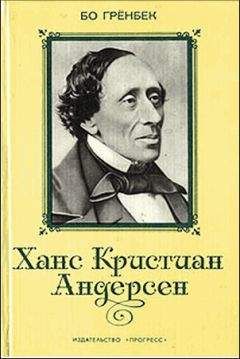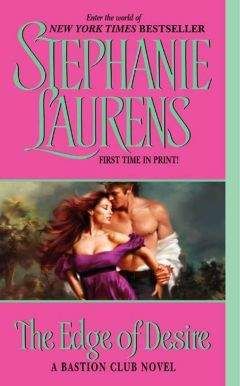Фру Коллин всмотрелась, подслеповато щурясь: ну так и есть, это Андерсен… Ах, бедняжка!
— Да не расстраивайтесь вы так, с кем этого не бывает! — стала она его ласково уговаривать. — Ну провалилась пьеса, освистали, что ж такого? Другой раз, даст бог, больше повезет. Вы же знаете нашу публику: ее хлебом не корми, а дай посвистать! Ведь случалось, что и самого Эленшлегера освистывали…
Рыдания внезапно смолкли, и Андерсен вскочил со стула.
— Милая, дорогая фру Коллин, что это вы тут говорите? Меня же вовсе не освистали, ничего подобного! Мне хлопали и кричали: «Браво, Андерсен!» Ну, были там два-три свистка, но они совершенно потонули в аплодисментах. Там же было полно наших студентов, разве они дадут товарища в обиду?
— Так чего же вы тогда плачете, чудак?
— Ах, я никак не мог удержаться! Это от счастья, наверное!.. И потом я так устал, так переволновался…
Андерсен быстро заходил по комнате. Плакать ему больше совсем не хотелось. Напротив, он чувствовал себя заряженным радостью: ничего не было бы удивительного, если б в полутьме библиотеки заблестели бы искорки, летящие от него! Он засмеялся этой выдумке.
— Ох, фру Коллин, как это вы говорите о нашей публике? — весело заговорил он, стремясь разрядиться шутками. — Это самая добрая, самая отзывчивая публика на свете! Если завсегдатаи галереи и имеют привычку с хрустом есть яблоки во время трагедии, то ведь зато они эти яблоки поливают горькими слезами! А недавно, когда на сцене герой умирал голодной смертью в темнице, какая-то добросердечная толстая мадам кинула с галереи огромный бутерброд, да так ловко, что он угодил прямо в рот несчастному узнику. И поднялся же шум! Капельдинеры бегают, зал хохочет, а некстати спасенный страдалец давится колбасой… Ну, я побежал к Вульфам, они, наверное, как раз вернулись из театра!
Поздней осенью деревья Розенборгского сада дрожали от резкого ветра и роняли с голых сучьев крупные капли. На размякших дорожках глубоко отпечатывался каждый шаг. Темные, низко нависшие облака то и дело меняли причудливые очертания, будто на небе, кривляясь, вели хоровод сказочные чудовища.
Не обращая внимания на грязь, облепившую калоши, Андерсен пробирался между деревьями. Вот оно, знакомое место. Здесь стояло его любимое дерево, он заметил его еще в свою первую весну в Копенгагене. Тоскуя об оденсейских буковых лесах, он бродил тогда по парку и наткнулся на удивительно славное деревце. Оно первым рискнуло раскрыть почки и выпустить свежие светло-зеленые листики, и Ханс Кристиан обрадовался ему как другу. Он обнял тонкий ствол, говорил что-то бессвязное, вперемешку стихи и прозу, а сторож принял его за сумасшедшего. С тех пор он подружился с этим деревом.
Сейчас оно стояло такое же черное и унылое, как его соседи вокруг, оплакивая свою утраченную зелень и улетевших птиц.
Андерсен тяжело вздохнул и опустился на скамейку. Девять лет назад он сиживал на ней в часы обеда: приходилось уходить из дому, чтобы хозяйка не догадалась, как плохи его дела, и съедать припасенный кусок хлеба здесь, в саду… Да, но все-таки он был тогда счастлив — куда счастливее, чем сейчас. Он о чем-то мечтал, куда-то стремился и вовсе не понимал, что мир — мрачная пустыня, а человек — пылинка, гонимая злым вихрем судьбы к отверстой могиле («пожалуй, это можно будет использовать в каком-нибудь стихотворении»).
Как подумаешь обо всех невзгодах и страданиях, на которые мы осуждены, так только диву даешься, что люди еще не разучились улыбаться…
Смеркалось, ветер пробирал до костей, и продрогший поэт меланхолически побрел к выходу из парка.
Сидя за вечерним чаем у Коллинов, он непривычно молчал и вздыхал так, что колебалось пламя ближней свечи.
— Что-то свеча слева плохо горит! — сказала Ингеборг. — Андерсен, вы забываете о своих обязанностях снимателя нагара!
Все так же молчаливо и безучастно он взял щипцы и поправил свечу. Коллины понимающе переглянулись: бедняга опять страдает от своей неудачной любви!
Эдвард сделал сестрам знак глазами: разговорите его как-нибудь, это по вашей части! На подвижном лице Ингеборг сменялись сочувствие и желание подразнить неутешного страдальца.
— Андерсен, может быть, вы хотите нам прочесть какие-нибудь стихи? — бодрым тоном предложила она наконец. Это был знак величайшей милости: обычно поэт терпел от нее жестокие насмешки за вечные попытки свести разговор на свое новое произведение. Но даже такое великодушие Ингеборг не смогло вывести его из мрачного отчаяния.
— У меня нет новых стихов, — грустно покачал он головой.
Это, конечно, была чистейшая ложь: исписанные листки торчали из его кармана. Но читать стихи о своей любви, подвергнуть обычной беспощадной критике эти стоны сердца, разбитого навек, — нет, это было свыше его сил!
Он рано ушел от Коллинов и долго ворочался без сна на своей скрипучей кровати. Наконец в уме его сложились стихи об осени, вереницах птиц, тянущихся на юг, о тоске; это как-то утешило его, и он смог уснуть.
Ураган любовных переживаний ворвался в его жизнь совершенно внезапно. Все шло прекрасно: он успешно сдал два университетских экзамена, дававших право на звание кандидата философии. После этого можно было оставить ученье или, решив стать юристом, пастором, учителем, продолжать занятия уже по выбранной специальности. С трепетом он ждал, что скажет старый Коллин.
«Идите по выбранной вами дороге, и дай вам бог успеха», — ласково сказал тот. С этим благословением человека, мнением которого он свято дорожил, Андерсен энергично ринулся в новые битвы. Он опубликовал небольшое описание Оденсе и его живописных окрестностей, издал сборник стихов, встреченный читателями довольно благосклонно, а затем, стремясь создать что-нибудь крупное, значительное, задумал написать исторический роман «Карлик Кристиана Второго». Это оказалось делом не легким. С утра до ночи пришлось сидеть за книгами, изучая обычаи, костюмы, религиозные представления, язык датчан XVI века, утопая в ворохе цитат и выписок, но роман все не двигался вперед.
Наконец Андерсену пришло в голову, что толк из работы выйдет только тогда, когда он своими глазами посмотрит все те исторические места, где должно происходить действие. Коллин одобрил эту мысль, снабдил его рекомендательными письмами к крупным провинциальным чиновникам, и вот в прекрасный летний день пароход с поэтом на борту отплыл от копенгагенской пристани.
Суровая красота моря, песчаные берега Ютландии, меловые утесы, над которыми с криком вьются чайки, чистенькие крохотные города, старые замки и крепости — все радовало его, все прочно оседало в памяти. Он завязывал разговоры с самыми разными людьми: плотным, кряжистым крестьянином, медленно и скупо отмеривающим слова, и бойкой служанкой на постоялом дворе, старым ученым-историком и маленькой девочкой, гоняющейся за бабочками, — и все они становились его друзьями.