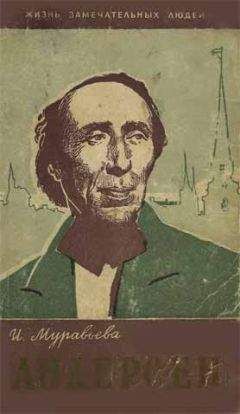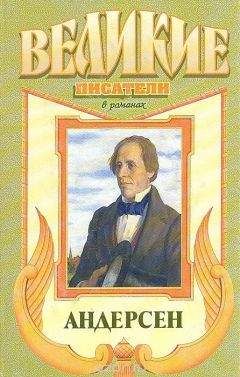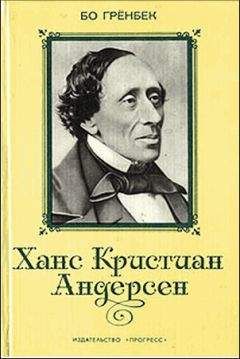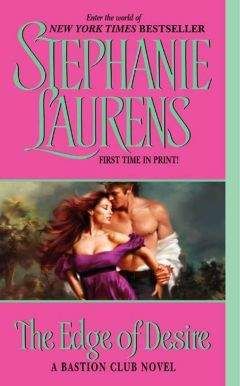— Разумеется, нет ничего важнее формы! — утверждал какой-нибудь молодой юрист, сторонник Гейберга. — Посмотрите на прекрасную статую, и вам это станет ясно. С какой тщательностью и изяществом скульптор обработал грубый материал, данный ему природой! То же и в поэзии: остроумный рассудительный человек с хорошим вкусом всегда напишет лучше, чем растрепанный мечтатель, вздыхающий на луну и не изучивший в совершенстве классических авторов.
— Но зато Ингеман, говорящий, что поэт должен жить в стороне от толпы и прислушиваться прежде всего к голосу сердца, больше обращает свои мысли к богу, а это так полезно в наш развращенный век! — возражал ему почтенный пастор.
— Все эти ваши стихи — пустые забавы и побрякушки! — высказывался богатый коммерсант. — Но против водевилей Гейберга ничего сказать нельзя: посмотрев их, можно от души посмеяться, а это хорошо освежает после делового дня.
Что думает по этому поводу народ, спорящих не интересовало: куда уж необразованному человеку судить о таких сложных вопросах!
И народу нужен был писатель, который заговорит на понятном всем языке и сумеет взволновать, заставит посмеяться, а потом и задуматься над прочитанным любого человека, даже если у него и нет университетского диплома.
Зимой 1831 года копенгагенские читатели, следившие за спором Гейберга с группой Эленшлегера, оживленно обсуждали стихотворный памфлет «Письма выходца с того света». Анонимный автор выступил от лица покойного Баггесена, старого противника Эленшлегера, и ядовито высмеивал писателей, не уделявших достаточного внимания вопросам формы. Больше всех досталось от него Андерсену.
Вон скачет Андерсен ретиво
На тощем ослике хромом.
Фантазии прокисшей пиво,
Стишки рождая, бродит в нем…
И дальше автор в грубом и высокомерном тоне издевался над невежеством вчерашнего бородатого школьника, не одолевшего грамматику, но претендующего на поэтическую славу.
Пусть бы сидел себе в темном углу да не смешил людей! На ледащем ослике вместо крылатого Пегаса не взобраться ему, недоучке, на священную гору Парнас!
Все это глубоко оскорбило впечатлительного Андерсена. Вскоре выяснилось, что памфлет принадлежал перу Герца, автора модных тогда пьес, приверженца Гейберга. Впрочем, Гейберг счел нужным вступиться в своей «Летучей почте» за Гауха и Ингемана, задетых Герцем. Для Андерсена же у него не нашлось доброго слова.
Сначала влиятельный критик благосклонно относился к молодому поэту, ценя в нем живость и юмор. В «Путешествии на Амагер» он правильно почувствовал близость Андерсена к его собственным позициям и приветствовал его. Но в блестящем салоне Гейберга не могли принять как равного, как своего неотесанного юнца с оденсейских окраин, с таким трудом пробившегося к образованию. Там превыше всего ценились шлифовка и лоск, полученные с колыбели.
В споре о форме окончательно выяснилось их коренное различие. Кое в чем Андерсен испытал на себе влияние Гейберга, хотя бы через Коллинов, восхищавшихся остроумным критиком. Так, он готов был в те годы признать, что «политика — гиена». Но врожденное демократическое чутье сына сапожника давало себя знать и в вопросах поэзии.
Андерсен не мог согласиться, что писать надо для избранного кружка знатоков и ценителей, и не хотел верить, что изящная отделка формы — главная задача поэта.
И, хотя его очень страшила немилость Гейберга, здесь он упорно стоял на своем.
— Чем проще, тем лучше! — говорил он о форме. — Что там ни говори, а внутреннее содержание, чувство и мысль поэта — это и есть главное, форма от них зависит.
— Это вы так думаете потому, что недостаточно изучили образцы и сами плохо владеете формой! — возражали ему и указывали на ошибки и слабые места в его стихах.
— Ну хорошо, пусть это так… — скрепя сердце соглашался он. — Но разве бесхитростные мелодии народных песен не прекрасны? Разве простенькие ромашки и подснежники радуют глаз меньше, чем пышные георгины и тюльпаны? И потом хотел бы я знать, станете ли вы есть пирожное самой затейливой и изящной формы, если в нем нет ни вкуса, ни запаха?
— Нет, Андерсен, не обижайтесь, — голубчик, но надо вам сказать прямо: не беритесь толковать о таких сложных вещах. Лучше уж слушайте, что говорят понимающие люди, да помалкивайте. И не вздумайте ссылаться на пример Эленшлегера, он не вам чета. Вам необходимо бороться с вашим опасным самомнением! — отповедь такого рода он мог услышать даже от своих друзей. А уж о посторонних и говорить нечего: смеяться над «чудаком Андерсеном» просто вошло в привычку.
Копенгагенские дамы злорадствовали, читая памфлет Герца: так и надо этому Андерсену! Принимают его в хорошем обществе, терпят его вечную декламацию, а он, вместо того чтобы радоваться и благодарить, взял да и написал стихотворение «Тараторки», где издевается над дамской пустой болтовней и пересудами. Ну, разумеется, это гнусная клевета, ни в одной гостиной он таких глупых сплетниц не мог встретить, но ведь люди бывают так злы! Поверят поэту, а потом поди доказывай, что не тебя и твоих приятельниц он имел в виду… Нет, мало ему еще досталось от Герца!
Ему было очень трудно. Другое дело, если б он мог полностью примкнуть к одной из литературных «партий», тогда авторитетные, уважаемые люди с той или иной стороны взяли бы его под свою опеку. Но он не мог этого сделать: ему надо было искать собственный путь.
«Если бы я следовал всем их указаниям и советам, — думал он, слушая своих друзей или читая отзывы критиков, — я стал бы как две капли воды похож на их «образцы». Тогда они были бы довольны. Но зато во всех моих произведениях не осталось бы ни строчки своей, оригинальной. Нет, я не буду писать ни «как Эленшлегер», ни «как Гейберг». Я хочу писать «как Андерсен»! Что в этом дурного?» А когда он пытался это высказать, его назвали самонадеянным упрямцем.
Весной 1831 года, видя уныние и мрачность своего питомца, страдавшего от воспоминаний о Риборг и от ядовитых укусов критики, старый Коллин помог ему отправиться в путешествие по Германии.
Это оказалось чудесным целительным средством. Большие шумные города, живописный лесистый Гарц, воспетый его любимцем Гейне, встречи с немецкими поэтами — все заставляло поэта забыть домашние горести. Полный новых впечатлений, приободрившийся и оживленный, Андерсен к осени вернулся в Данию и новыми глазами увидел привычные места.
Оказывается, Копенгаген — вовсе не большой и шумный город: главная улица выглядит сонной и малолюдной даже в самые оживленные часы!
А в гостиных все то же переливание из пустого в порожнее, каждая сплетня все так же молниеносно обходит город — от дворца до мелочной лавочки — и по дороге растет, как снежный ком.