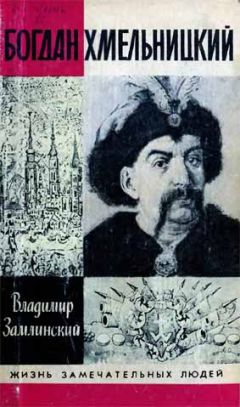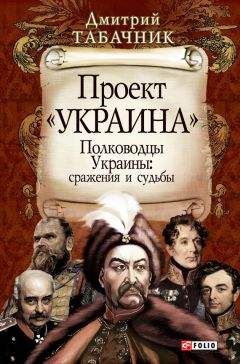Затем в посольскую избу призвали казацких послов. Когда те вошли в залу, наступило настороженное молчание. Присутствующие сенаторы, один с интересом, другие с ненавистью смотрели на послов Хмельницкого. Особенный гнев проявляли восточноукраинские магнаты, богатства которых захватил восставший народ. И все из-за попустительства этого либерала — коронного канцлера Оссолинского! Хватит! Его нужно убрать и канцлером поставить своего человека, который бы твердой рукой усмирил схизматиков[66] и вернул им отобранные земли. Чтобы скомпрометировать в глазах шляхты Оссолинского, они настояли на публичном допросе казацких послов о связях покойного короля и Оссолинского с Хмельницким. Казаки еще не успели освоиться с обстановкой, как тишину нарушил резкий голос маршалка посольской избы:
— Объясните нам, давал ли король Владислав IV Хмельницкому привилей на право набора казаков? Из каких средств были отпущены деньги на их содержание и для построения чаек?
Вопрос застал врасплох не только послов, но и Оссолинского. В посольской избе, как и в сейме, хорошо понимали его смысл и с настороженностью ожидали, что ответят послы. От этого зависело многое. Казацкие посланцы молча переглянулись, и один из них, выйдя чуть вперед, проговорил в сторону задавшего вопрос.
— Если какой-либо привилей и был когда-либо выдан королем, то о нем нужно спросить самого Хмельницкого и старшину. Хмельницкий же нам ничего не говорил о сношении с Оссолинским и не давал об этом никаких приказаний, отправляя нас на сейм.
Лаконичный и твердый ответ свидетельствовал, что от послов большего не добьешься. 12 июля казацких депутатов вызвали в сенат и зачитали ответ, в котором были изложены требования: немедленно освободить всех пленных польских дворян, вернуть взятое в сражениях оружие, разорвать союз с татарами, отослать в Варшаву виновников бунта.
Молча выслушали послы этот приговор сейма и уже хотели возвратиться на свои квартиры, но тут поднялся архиепископ Лубенский и сообщил им, что сейм принял нижайшую просьбу Хмельницкого и в основном удовлетворил ее. Многое скрывалось за этим решением. И то, что великопольская шляхта, видя, что казацкие требования не ущемляют ее интересов, не поддержала восточно-украинских магнатов, и то, что восточноукраинские магнаты не смогли использовать сейм, чтобы сбросить коронного канцлера Оссолинского и посадить на его место своего человека, и то, что удовлетворение требований Хмельницкого, по мнению того же Оссолинского, давало возможность отколоть казаков от крестьян, привлечь на свою сторону и таким путем покончить с восстанием на Украине. Но все-таки «посполитое рушение» объявили и руководителей его назначили. Новый поход шляхты на Украину был не за горами.
Ответ сейма должен был передать Хмельницкому польский дворянин Вольский. Он и отбыл в середине июля с казацкими послами в Белую Церковь. А вслед за ними туда же отправились и назначенные сеймом для переговоров комиссары Кисель, Сальский, Дубравский, Обухович.
В начале августа 1648 года комиссары прибыли на Волынь, которая также пылала восстанием. Кисель, испугавшись, решил не идти дальше, а послать к Хмельницкому своих представителей. Вместе с казацкими послами и Вольским они направились в Чигирин.
ПИСЬМО ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Ожидая возвращения послов, Хмельницкий укреплял войско и принимал меры к распространению восстания. Однако он никогда не забывал, что не добьется окончательного успеха без братского русского народа. На этот путь становились все предшественники Хмельницкого, руководители крестьянско-казацких восстаний в 1625, 1630 и 1637–1638 годах, которые всячески стремились связаться с российским правительством. Хмельницкий видел дальше своих единомышленников и первый понял, что война против ига папской Польши — это и война за воссоединение Украины с Россией. Это диктовалось не перипетиями военных действий, а общностью истории, потребностями судеб народа в будущем.
Для русского царя непросто взять сейчас Украину под свою руку. Это значит вовлечь страну в войну с Речью Посполитой, к которой Русское государство не готово. Как доносили Хмельницкому, там сейчас неспокойно. Простолюдины в Москве и других городах высказывают недовольство властью. Поговаривают даже о восстании. Как бы не обвинили его в том, что подает дурной пример. И все же русское правительство не может остаться нейтральным.
Русский народ всегда с глубоким сочувствием относился к борющейся Украине. Когда под Киевом задержали русского посланца к Адаму Киселю, гетман приказал немедля препроводить его в Мошны, недалеко от Белой Церкви, где он располагался тогда с семьей.
Был жаркий июнь. Высокое бледно-голубое небо с раннего утра до позднего вечера было чистым, без единого облачка. Хмельницкий был с детьми в саду, наслаждаясь прохладой и семейными радостями.
Нечасто выпадала гетману в последнее время такая минута. А тут еще хан отпустил домой Тимоша. Это было добрым знаком усиления доверия к нему Ислам-Гирея.
Правда, по рассказам сына, да и казаков, оставшихся с ним, жилось там ему не с медом. В первое время, не доверяя Хмельницкому и боясь, что казаки могут выкрасть сына, хан даже пытался запрятать его далеко в горах, подальше от любопытных глаз.
История донесла до нас свидетельства об этом. Дело в том, что жившие в Крыму караимы в конце своих молитвенных книг отмечали события особой важности, происшедшие в том или ином году. В одной из таких молитвенных книг, хранившихся в караимской национальной библиотеке «Карай Битикличи» в Евпатории и принадлежащей некоему Каракашу из Бахчисарая, была выявлена запись на татарском языке о сыне Богдана Хмельницкого Тимоше.
«После того, — говорится в ней, — как живший около базара в доме Аветик-оглы глава казаков гетман Богдан Ихмелиски (Хмельницкий. — В. З.) вернулся к Днепру, его величество Ислам-Гирей хан послал к нам через Сююн-агу приказ, чтобы мы содержали в нашей крепости сына его Темоша в качестве аманнта (заложника). Когда мы, ударив челом, сказали, что не можем принять Тимоша, Сююн-ага, рассердившись, сказал: «Вы, не боясь, приказ высокосановского хана бросаете на землю и противитесь ему, — так знайте же, что к Балта-Таймезу[67] дотронется топор!» — так сказавши, он разгневался и отъехал.
На сердце общины пало великое уныние. Потом старый Эрби, вместе с Ходжашем и Тохтамышем[68], сев на коней, догнали у Салачика[69] Сююн-агу и сказали: «Сююн-ага, ты ведь знаешь, что мы всегда послушны приказу хана-отца, но мы ведь с этими казаками кайлы (кровная месть. — В. З.), и мы боимся, чтобы наша молодежь, сцепившись с этим сыном гяура[70], не произвела кровопролития». После того как они это пояснили, у Сююн-аги отлегло на сердце, и гнев его прошел. Он сказал: «Доложу отцу-хану, ждите!»