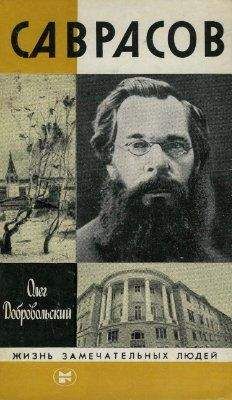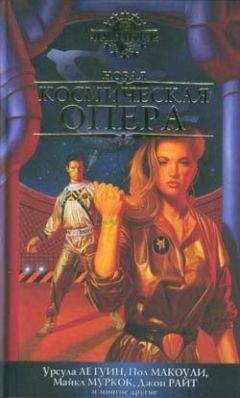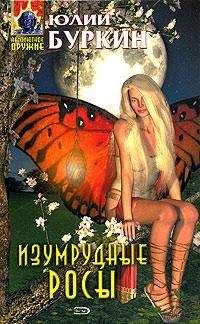Летом 1868 года Алексея Кондратьевича с семьей пригласил в свое подмосковное имение Соколово коллекционер и меценат М. С. Мазурин, большой поклонник его таланта. Он даже специально построил комнату с широким окном для мастерской Саврасова. Все было хорошо, но вся беда в том, что художник не мог серьезно работать: в имении постоянно бывало много гостей с детьми, чуть ли не каждодневно устраивались различные увеселения, прогулки, пикники, танцевальные вечера; хлебосольный хозяин приглашал на завтраки, обеды, ужины, занимавшие много времени. Имение было расположено в низине, по которой протекала речка. Местность сырая, нездоровая, и дорога в имение проходила через Кобылью лужу, где экипажи едва не застревали в глубокой непросыхающей грязи. И все-таки пожили в Соколове неплохо! Даже серьезный и сосредоточенный Алексей Кондратьевич поддался общему веселью. Не устоял… Участвовал в пикниках и других развлечениях. Все это, конечно, в ущерб работе, но не может же человек постоянно трудиться. Надо и отдохнуть…
Но вот наступала осень, дачники возвращались в Москву, и снова обычная городская жизнь. И приходила зима — с белыми снегами, с разрисованными морозом узорами на окнах, с весело потрескивающим огнем в голландской печке, с меховыми шубами и салопами, капорами и муфтами, со скрипом быстро летящих по улицам саней, с деревьями в холодном уборе мохнатого инея…
По праздникам, а иногда и в воскресные дни ездили с детьми в Замоскворечье, к отцу Саврасова и мачехе, или на Тверскую, в гости к профессору Герцу, жившему по-прежнему в Трехпрудном переулке, за Глазной больницей. Карл Карлович любил сестру, да и с зятем у него сохранялись хорошие дружеские отношения, он был приветлив, внимателен, любезен, но все же по-профессорски несколько холоден и сдержан, и вся обстановка в его холостяцкой квартире — строгая и чинная, с огромным письменным столом, кожаными креслами, коврами, картинами в дорогих рамах, множеством книг в шкафах красного дерева — казалась несколько официальной, настраивала на серьезный лад. Зато в Замоскворечье все было по-другому.
Утром, после завтрака, начинали собираться, одевали детей, закутывали их пуховыми платками (на улице хоть и светит солнце, да мороз нешуточный), выходили на Мясницкую и, наняв двух извозчиков, ехали на Берсеневскую набережную, где жил Кондратий Артемьевич со своей женой. Там их уже ждали. В маленьких комнатах деревянного дома на церковном дворе, принадлежащего священнику приходской церкви, было чисто, все тщательно прибрано, печи протоплены. Дедушка Соврасов в своем обычном темном и длинном сюртуке, Татьяна Ивановна по случаю праздника и приезда дорогих гостей — в шелковом платье, вытащенном, должно быть, из сундука, где оно пролежало много лет, в чепце с лентами. Мачеха Алексея Кондратьевича постарела, стала еще меньше ростом, но была все такая же беспокойная, вечно озабоченная женщина, опекавшая всех своих близких, очень любившая поговорить. Здесь же и ее падчерицы, родные сестры Саврасова — Анна, Елизавета и Любовь; они с Татьяной Ивановной владели небольшой белошвейной мастерской, где работали и сами вместе с дальними родственницами и несколькими девочками-ученицами, а заказы на шитье белья получал из магазинов в торговых рядах Кондратий Артемьевич. Бабушка была искусная мастерица. Мужские денные сорочки с вышивкой ее работы считались лучшими в Москве.
Объятия, поцелуи. Веру и Женни раздевали, освобождали от платков, капоров, бархатных сапожек, они чувствовали себя здесь как дома, скоро начинали играть и веселиться, льнули к дедушке, который сажал их на колени, ласкал, гладил по головкам и что-то дарил на память, какую-то полезную вещь, которая могла им пригодиться: теплые шерстяные варежки или маленькую муфту, красивую шелковую ленту или чулочки… Потом все вместе обедали, подавали закуску, жаркое, пироги, пили чай со сластями, и разговорам не было конца. Татьяна Ивановна почти не умолкала, рассказывая обо всем понемногу — и о своей белошвейной мастерской, и о священнике, в доме которого они жили, и о том, что от ревматизма, ломоты и простуды помогает сосновое масло, и как надо солить огурцы… Играли в лото, шашки. Хорошо, уютно было в этих теплых скромных комнатах, освещенных зимним солнцем, с примостившейся на полу, возле печки, кошкой…
Дни шли за днями, наполненные маленькими радостями и огорчениями, надеждами и тревогами. Но все эти обычные заботы и хлопоты не могли заслонить, отодвинуть на задний план то главное, ради чего жил Саврасов, — его работу. Отдав дань швейцарским сюжетам, он снова стал писать русскую природу, снова на его этюдах и картинах возникли подмосковные рощи и луга, но уже что-то новое, незнакомое прежде появилось в них. Правда, художник еще раз, но ненадолго, обратился к альпийскому пейзажу. В 1867 году он опять отправился за границу, теперь один, без жены. Он ездил в Париж, на Всемирную выставку, на которой в разделе русской живописи были представлены работы его московских друзей Перова и Пукирева, и перед возвращением в Россию побывал в Швейцарии, в Бернском Оберланде, где пять лет назад провел незабываемые дни вместе с Софи. Увидел сызнова Берн, Женеву, Леманское озеро, Альпы… По сделанным там этюдам он написал восемь картин, простившись, уже навсегда, с природой страны гор и озер.
Эта вторая заграничная поездка имела для Саврасова немаловажное значение. Тогда, во второй половине 60-х годов, он был в неустанных поисках, многое менялось в его творческом методе, он окончательно освободился от влияния академических традиций, стремился к обновлению изобразительных средств, шел к созданию истинно реалистического пейзажа, в котором демократические черты, народность органично сочетались с лиризмом, поэтической взволнованностью. Художник, приехавший в Париж, не может не посетить музеи, галереи, выставки. Неважно, что он уже осматривал их однажды. Произведения не меняются, они остаются такими, какими их создали творцы, но меняются люди, которые на них смотрят: известно, как по-разному воспринимаем мы, например, гениальный роман Льва Толстого «Война и мир», прочитывая его в разные периоды своей жизни. То же самое, или примерно то же самое, происходит с нашим отношением к выдающимся произведениям искусства. Тем более если речь идет не о зрителе — любителе, дилетанте, а о художнике-профессионале, художнике ищущем, неудовлетворенном достигнутым, находящемся в непрерывном творческом движении.
Саврасов снова пришел в Лувр. А в галереях и на выставках его ждала встреча с современным искусством. Перед ним висели на стенах полотна барбизонцев, многие из которых он уже видел. Теперь ему открылось в них что-то новое, не замеченное прежде. Совсем обыденные сюжеты и мотивы, близкие и понятные простым людям: мокрые луга со стадами коров, полевые дороги, по которым возвращаются уставшие за день крестьяне, лесные опушки, просеки, болота, домишки бедняков под сенью старых деревьев, иссохшая, пепельная земля, коренастые, угловатые деревенские жители с мотыгами, косами, граблями, серпами, поля со снопами сжатой пшеницы, летящие в осеннем небе, спешащие на юг ласточки, пробуждение природы в распустившихся на ивах почках, в потоке весеннего, заливающего все вокруг света — все это — самое обычное, простое, виденное и перевиденное людьми сотни раз, изображалось художниками правдиво, без прикрас и волновало зрителей, создавало у них определенное настроение. Не сельская природа вообще, а сельская природа Франции. Пейзаж этот был глубоко национален. Сама жизнь, сама правда.