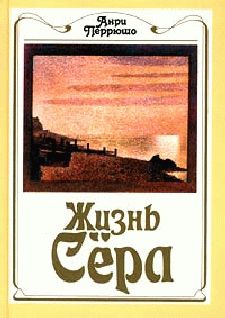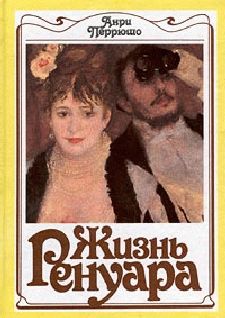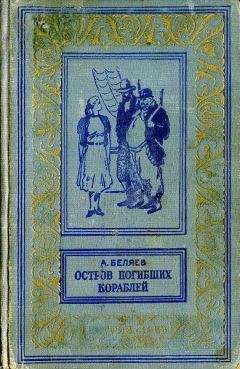Я имею право так думать и говорить, потому что я начал писать в этой манере, чтобы найти что-то новое, найти собственную живопись.
Вот все, что я мог ему сказать. Что касается начала фразы, оно, очевидно, относится к статье в "Матэн", где меня называют учеником Писсарро... Я не могу с этим согласиться, это неверно. Я ему на это указал".
Сёра добавил, что в последний раз виделся с Арсеном Александром более года назад и что выставлялся вместе с Синьяком "...в отдельном зале, чего не сделал бы, - уточнил он, - если бы думал о своих товарищах то, что ты мне приписываешь". На полях письма последний комментарий: "Однако я говорю не много".
Эта эпистолярная дискуссия не представляла бы в конечном счете особого интереса, если бы не имела последствий, которых Синьяк, по всей видимости, совершенно не ожидал. Возмущение Синьяка подтолкнуло Камиля Писсарро к откровениям; он отбросил свои колебания и угрызения совести. После душевного смятения, в котором он оказался из-за своего окончившегося неудачей эксперимента, Писсарро представилась возможность избавиться наконец от того, что его угнетало, покончить раз и навсегда с тяготившей его раздвоенностью. "Воистину если Сёра спровоцировал статью, на которую Вы мне указываете, писал художник, - то он потерял голову". Но Писсарро не останавливается на предположениях и продолжает:
"Как, разве было недостаточно того, что с самого начала мы принимали строжайшие меры предосторожности, подчеркивая это в разговорах с Фенеоном, Дюран-Рюэлем и всеми, кто занимался новой живописью, чтобы оставить за Сёра славу быть во Франции первым, кому пришла в голову мысль применить на практике науку, касавшуюся живописи? Сегодня он хотел бы быть единственным ее обладателем!.. Но это абсурд!.. Что ж, дорогой Синьяк, придется выдать Сёра патент на изобретение, если это может польстить его самолюбию..."
И Писсарро переходит к изложению существа проблемы, своей проблемы:
"В целом искусство не укладывается в рамки научной теории. Если бы у Сёра было только это, уверяю Вас, он вызвал бы у меня слабый интерес. Разве нельзя создавать шедевры, пользуясь только черным и белым цветами? А Вы, мой дорогой Синьяк, думаете ли Вы, что это суть Вашего таланта? К счастью, это не так. Не поддавайтесь же влиянию этой пустой болтовни, сохраняйте спокойствие, творите без суеты, и пусть кричат завистники. У Вас есть все, что нужно для того, чтобы заниматься искусством..."
Конечно, его рассуждения Синьяк прочел с изумлением. К тому же Писсарро этим не ограничился. Уже долгие месяцы страдая от того, что обернулось для него непосильными оковами, изнуренный необходимостью следовать за Сёра слишком суровыми тропами, он мог бы сказать себе правду: эта дорога действительно никуда его не приведет, он не создан для этих крутых откосов и голых вершин. Но люди редко признаются в своих промахах, и Писсарро, излив свое недовольство Сёра-человеком, обрушивается на его метод, вскрывает его опасность, считая губительными его пример и его суровую дисциплину и, неожиданно обретя силы в том, что, как ему показалось, он нашел в возмущенном Синьяке единомышленника, с жаром убеждает последнего отказаться от всех ограничений - конечно же, во имя свободы.
"Для будущего нашего "импрессионистического" искусства необходимо, продолжал он, - оставаться вне влияния школы Сёра. Впрочем, Вы сами это почувствовали еще раньше. Сёра - это в чистом виде Школа изящных искусств, он пропитан ею... Так проявим же осмотрительность, ведь здесь нас и подстерегает опасность. Речь сейчас идет не о технике, не о науке, речь идет о нашей традиции; ее надо сберечь. Итак, используйте науку, которая принадлежит всем, но сохраните в себе тот дар чувствовать, которым Вы обладаете как художник свободной расы, и предоставьте Сёра решать свои проблемы, они, очевидно, будут полезными. Таков его удел. Но творчество это нечто более возвышенное! - заканчивает он. - Имеющий уши да услышит! "
Теперь уже Синьяк не может не понимать - Писсарро оставляет "нео". Незначительный инцидент, приведший к обмену письмами[119], ускорил принятие решения, которое давно зрело в душе художника из Эраньи. Как бы то ни было, наука внушала Писсарро слишком большое уважение, чтобы он перестал вдруг выдавать себя за "научного" импрессиониста. Однако он отказался от пуантилирования и отныне будет открыто критиковать точечный метод. Ренуар был прав.
"Я много размышлял о способе, который позволил бы обходиться без точки, - пишет Писсарро где-то после 6 сентября Люсьену. - Надеюсь, что найду его, но я еще не решил вопрос чистого тона, разделенного без жесткости... Что нужно сделать, чтобы достичь чистоты и простоты точки и одновременно густоты мазка, гибкости, свободы, непосредственности, свежести ощущения, присущих нашему импрессионистическому искусству? Вот вопрос. Это весьма сильно меня занимает, ибо точка невыразительна, лишена плотности, полупрозрачна, скорее однообразна, чем проста, далее в работах Сёра, и прежде всего в работах Сёра... Я много думаю над этим вопросом и собираюсь отправиться в Лувр, чтобы посмотреть на некоторых художников, интересующих меня, под этим углом зрения".
Отступничество ошеломило Синьяка.
Сёра же отнесется к нему с привычным для него безразличием, как ко всему, что не касается его творчества. Важно только его искусство. Он продолжал восхождение по суровым тропам, ведущим на вершину его горы.
Поведение Писсарро - это, несомненно, реакция художника, избравшего слишком неподходящий образец для подражания. Это также реакция художника, для которого этот образец отнюдь и не подходил, что бы он там себе ни воображал. Художник в нем несовместим с теоретиком и может существовать лишь в атмосфере непосредственного и свежего ощущения, о котором он упоминает в своем письме к Люсьену, - существовать лишь тогда, когда он находится в гуще жизни, когда погружен в стихию, которую Сёра как раз и стремится обуздать, запечатлеть в окаменении вечности. В Писсарро восстала сама жизнь, испытавшая над собой насилие.
В то же самое время по странному совпадению Сёра вводит в композицию своего пор-ан-бессенского полотна "Мост и набережные" персонажи, до этого не фигурирующие ни на одной из его марин. Помимо нескольких силуэтов на заднем плане, на переднем застыли в неподвижности таможенник, ребенок, а также женщина с какой-то ношей. Застыли, окаменели - безусловно. Но их присутствие нарушает абсолютное одиночество, характерное для марин художника. Жизнь вторгается в его одинокое царство, погруженное в невыразимо сонное оцепенение, - царство моря, берегов и причалов.
И как если бы этот прилив жизни проявлялся всюду и сдерживаемые до поры жизненные силы, накапливаясь, вдруг начали вырываться наружу, распространяться везде, где только можно - в однообразные и суровые будни художника вторглось то, что он всегда старался подавить, изгнать, - та мрачная сила, которая дает рождение всему живому и его же обрекает на гибель в стихийном, обретающем самые разные формы натиске, в слепом и торжествующем порыве.