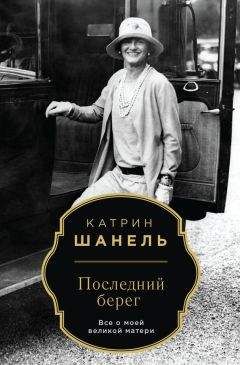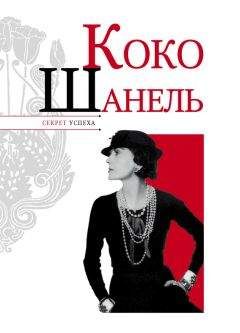– Это плохая работа, очень небрежная. Но цена соответствует, не так ли? Приличная клиентка сюда не придет. Посмотри, этот рукав, кажется, пришит косо…
Она рванула рукав, нитки затрещали.
– Мадам, так нельзя! – запищала маленькая приказчица.
Шанель посмотрела на нее так, словно надеялась прожечь в ней дыру.
Но мать могла бы смотреть на эту девчонку хоть целый год.
Та просто не знала Шанель, понятия об этом не имела – ей было едва-едва семнадцать.
– Вам придется купить эту вещь.
– Без всякого удовольствия! – сатирически раскланялась Шанель.
– Знаешь, эта блузка ничего, – сказала она мне уже на улице. – Ткань отличная, и лекало удачное. Надо только срезать этот кошмарный блестящий шнур и золотые пуговицы заменить просто черными. Я переделаю ее тебе. Пойдем-ка в «Риц», у меня там есть все необходимое.
– Я хотела еще посмотреть туфли у Лафайета.
– Ах, ну тогда без меня. Я уже устала. Купи с такими пуговками на носке, они, по крайней мере, забавные. Только не лакированные – с таким размером ноги это выглядит так, как будто ты всунула ноги в два рояля…
– Ох, мама, как бы я жила без твоих комплиментов!
Но подходящих туфель я не нашла и пошла в «Риц». Я стучала в дверь комнаты, но мне никто не открыл, и я спустилась к портье за ключом. У портье был испуганный вид.
– Мадемуазель похищена.
– Жозеф, вы говорите глупости. Как она может быть похищена? Она собиралась перешить для меня блузку. Скорее всего, она вышла за нитками или еще за какой-то чепухой.
– Говорю вам, она похищена. Два каких-то громилы, рукава засучены, мышцы так и перекатываются, револьверы заткнуты напоказ за пояса… Оттолкнули беднягу Гийома так, что он отлетел едва не за угол – это с его-то комплекцией! Вошли и сразу же вышли вместе с мадемуазель. Она выглядела очень спокойной. Сказала мне: Жозеф, всего доброго. Мадемуазель хотела еще что-то сказать, но один из молодчиков взял ее под локоть, весьма нахально, нужно заметить. Они посадили ее в «Ситроен» и унеслись, как вихрь. Присядьте, мадемуазель, вы страшно побледнели…
Все же я поднялась в номер и убедилась, что маму арестовали сразу после ее прихода – пакет с купленной блузкой стоял прямо у дверей, на шахматном столике лежала ее шляпа. Вероятно, за нами следили. Выпив воды и приняв таблетку, я поспешила на улицу Камбон. Там я застала зареванную Жермен.
– Мадемуазель, только что приезжали какие-то ужасные люди на огромном черном автомобиле, с огромными револьверами, и сами огромные! Спросили мадемуазель Шанель. Я так волнуюсь за нее!
– Жермена, не плачьте. Мадемуазель Шанель арестована. Я уверена, скоро все выяснится. Давайте подождем. И когда вам надоест заламывать руки, сварите мне кофе, ладно? И себе тоже сварите. Нам не помешает чашечка хорошего кофе.
Через полтора часа и полдюжины чашек кофе зазвонил телефон.
– Жермена, наверное, изошла на слезы, – сказала мать. – Я скоро приеду.
Ух, какой она была злой!
– Подумай только, Вороненок, «комитет по чистке»… это кого же тут надо чистить, позвольте спросить? Этим юнцам неплохо было бы начать с собственных ботинок. Вычищают Париж от мерзости коллаборационизма! Да из всех французов судить стоит только правительство Виши, все остальные просто устраивались, как могли. Я так и сказала ему, этому унылому карлику.
– А он?
– А он сказал, что таким, как я, бреют головы. Но это неважно, я даже не хотела вслушиваться в его бред. К счастью, им прекрасно известно, что за мной стоят влиятельные друзья. Этот комитет просто зарвался, если посмел показать зубы Шанель… Напоследок посоветовали мне – какова наглость! – не показываться на люди. Мол, народный гнев может принести мне неприятности. Это кто тут народ? И что это значит – брить голову?
Я старалась не смотреть на мать.
– Они бреют голову женщинам, которые спали с немцами.
Мать раскрыла рот и задышала так часто и глубоко, что я побоялась – она потеряет сознание из-за гипервентиляции. Нужно быть человеком, зацикленным на своей персоне, чтобы не заметить всего, что происходило вокруг. Освобожденные граждане Франции мстили за годы своего униженного положения и вымещали досаду – на ком? – на самых беззащитных.
Их вытаскивали из домов, тащили на площадь, раздевали до рубашек, а кое-где и донага, потому что рубашки тогда были не у всех. Им брили головы тупыми бритвами, кромсающими кожу. На высоких от бритья лбах, на грудях, на спине рисовали им свастики. Наказания и унижения были тем сильнее, что проводились публично, на глазах у родных, соседей и знакомых. Зеваки хохотали, потешаясь над унижением женщин. Парни из числа «сопротивленцев последнего часа» пускали папиросный дым им в лицо, плевали в них, щипали, били ремнями.
– Подстилка для боша! – кричали им.
Я слышала, что одна из женщин, вырвавшись из рук мучителей, опрометью бросилась через двор, в двери дома, вверх по лестнице… Ее не успели догнать – она выбросилась из окна шестого этажа, раскроив о мостовую свой только что обритый череп. И все-таки, кто же были в основном эти обритые наголо женщины? Вряд ли это был единственный случай самоубийства. Я слышала, что многих женщин расстреливали или забивали до смерти в патриотическом запале.
– Мы же вас предупреждали, – кричали мужчины.
О, да. Это было правдой. Они предупреждали. Я видела листовку, в которой говорилось: «Француженки, которые отдаются немцам, будут пострижены наголо. Мы напишем вам на спине – «Продались немцам». Когда юные француженки продают свое тело гестаповцам или милиционерам, они продают кровь и душу своих французских соотечественников. Будущие жены и матери, они обязаны сохранять свою чистоту во имя любви к родине».
Но и женщинам было чем оправдаться. Я видела, как высокая красивая блондинка с яркими губами, видимо, жалея своих роскошных кудрей, кричала пришедшим к ней мстителям:
– Эй, вы! Бесстрашные мужчины! Если вас можно так назвать! А вы-то где были, когда я спала со своим толстобрюхим начальничком! По каким щелям вы прятались? Почему не легли костьми, чтобы не пустить сюда бошей? Мой брат был в Сопротивлении, он все время приходил сюда и лопал ту еду, которую я приносила с работы! Которая была куплена моим телом! Он набирался сил для борьбы, так какого же черта ваша победа считается только вашей, а не моей?
И ей удалось устыдить. «Бесстрашные мужчины» пристыженно ушли, оглядываясь, словно волки.
Те, на ком мужчины Франции вымещали свой гнев, были в основном вольнонаемными служащими вермахта во Франции: сотрудницы санитарной службы, уборщицы, гостиничный персонал, повара и судомойки, секретарши, стенографистки… Они работали, чтобы кормить свою семью, лишившуюся зачастую кормильца, который был на фронте или в подполье, или не имели возможности зарабатывать. И если они порой и покорялись своим патронам, так много ли было на них вины? Чужаки надругались над ними, свои опозорили и судили их.