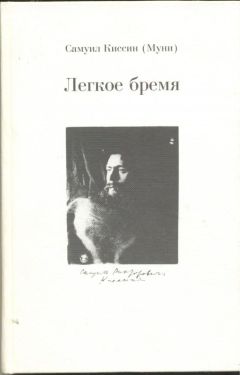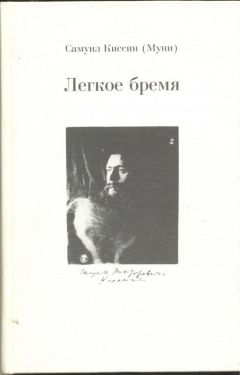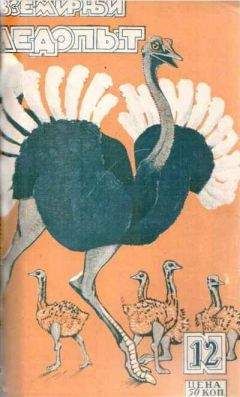С того дня все мое детство окрашено страстью к балету и не вспоминается мне иначе, как в связи с ним. Балет возымел решительное влияние на всю мою жизнь, на то, как слагались впоследствии мои вкусы, пристрастия, интересы. В конечном счете через балет пришел я к искусству вообще и к поэзии в частности. Большой театр был моей духовной родиной. С благоговением и благодарностью вспоминаю его торжественное великолепие, его облачный и мифологический плафон, его пышную позолоту, алый бархат партера, пурпурный штоф занавесей в его ложах, величавую и строгую пустоту царской ложи, в таинственном мраке которой тускнеет зеркало; в большие дни зажигаются там золотые тяжелые канделябры. Мне до мелочей памятны полукруглые коридоры театра, отшлифованные ступени его каменных лестниц и совершенно особенный, неповторимый, немного приторный запах зрительного зала: он казался мне смесью шоколада, духов и сукна.
Вряд ли мир видел столь юного балетомана. Однако лет с четырех я стал именно балетоманом и благодаря этой ранней сознательности помню такие балетные времена, каких сверстники мои, разумеется, уж не помнят. Очень скоро, без посторонней помощи, силою лишь любви и внимания, научился я отличать друг от друга не только балеты, но и отдельных артистов и даже тонкости их восхитительного ремесла. Уже весьма пожилую, уже сходящую со сцены Гейтен23, признаюсь, помню смутно. Зато отчетливо видятся мне и милая Рославлева24 с мягкою задушевностью ее танца, и хрупкая Джури25, с ее игольчатыми движениями, и – вся быстрота и огонь – Федорова 2-я26, и чистый профиль Домашевой 2-й27 (той, что позднее перешла в драму), и первые успехи восходящей звезды – Гельцер28.
В годы раннего моего балетомантства обстановочная часть находилась в руках «машиниста и декоратора» Вальца29. Впоследствии к ней привлекли настоящих художников. С появлением Клодта30 и в особенности К. А. Коровина31 декорации и костюмы, разумеется, много выиграли в отношении художественном. Коровинская «Эсмеральда» была событием. Но должен признаться, что о пресечении вальцевской традиции мне порою хотелось вздохнуть. Постановки Вальца были отчасти безвкусны, но в них было столько таланта и волшебства, в самом безвкусии было столько прелести, а в их наивном натурализме столько нечаянной и прелестной условности, что их все-таки нельзя не назвать очаровательными. В 1921 году, в Петербурге, случилось мне видеть «Раймонду», поставленную в выцветших, «дореформенных» декорациях того же стиля, – это было необыкновенно хорошо.
Было бы удивительно, если бы увлечение балетом не вызвало с моей стороны попыток самостоятельного творчества в том же роде. И в самом деле – по целым дням вертелся я на ковре в гостиной, импровизируя перед трюмо целые балеты, в которых я был единственным действующим лицом, – так сказать, монобалеты. К кому-то из моих братьев порой заходил артист Большого театра Дмитрий Спиридонович Литавкин. Я смотрел на него с обожанием. Как танцовщик, принадлежал он к числу заметных, но все же второстепенных величин. В «Коньке-Горбунке» и в «Жизни за царя» танцевал он мазурку в первой паре – это была его коронная роль. Он дал мне несколько уроков или, вернее, показал несколько приемов, благодаря которым мои упражнения перестали быть слишком дилетантскими. По-видимому, способности к танцам у меня были очень большие. Меня показывали знакомым, как чудо– ребенка. Общие одобрения доходили до того, что, хоть родители мои были людьми старинных воззрений, все же весьма серьезно обсуждался вопрос, не следует ли меня впоследствии отдать не в гимназию, а в театральное училище. К этому все и шло, и я уже воображал себя на голубой, лунной сцене Большого театра, в трико, с застывшей улыбкой на лице, округленно поднявшим левую руку, а правой – поддерживающим танцовщицу в белой пачке, усеянной золотыми блестками. Этим мечтам не суждено было исполниться. Лет шести я стал хворать бронхитами. Доктор Смит объявил, что мои легкие не выдержат балетной учебы. Я покорился потому, что был очень послушным ребенком, и потому, что к тому времени начались у меня некоторые другие увлечения, о которых скажу впоследствии. Тем не менее я и теперь иногда жалею, что не довелось мне стать танцовщиком. Навсегда сохранилась у меня любовь к балету. Я люблю танцовщиков и танцовщиц – хотя бы просто за то, что они избрали себе красивое и утешительное поприще, на котором не довелось мне стать их товарищем. Мне всегда хочется видеть их счастливыми, и смерть кого-нибудь из них меня всякий раз глубоко волнует.
Я забыл сказать, что в балетных своих упражнениях я неизменно изображал танцовщицу, а не танцовщика. Оно и понятно: в классическом балете танцовщице принадлежит роль несравненно более видная и выигрышная. Должно быть, это обстоятельство (в связи с моей хрупкостью) отчасти способствовало тому, что во мне развились черты и наклонности женственные. Я не очень любил играть с детьми, но уж если играть, то предпочитал с девочками. К тому же и рос я, так сказать, в гинекее: с мамою, с няней, с бабушкой, с сестрой Женей. Женя же (хоть она и уверяет теперь, будто это неправда) была и осталась отчаянной модницей. Мне нравилось, что она такая нарядная, тоненькая и стройная, что у нее красивые руки и ноги, что даже коричневое гимназическое платье с черным фартуком так хорошо на ней сидит. То и дело она совещалась с мамой и Сашенькой (домашней портнихой), ходила по магазинам, рассматривая модные картинки. Я стал очень недурно разбираться в дамских нарядах, потому что во мне развилось к ним внимание, и уверен, что до сих пор кое-что в этом смыслю. Главное же – я сам стал настоящий франт. Помню дикий скандал, учиненный мною из-за того, что на матросский воротничок нашили мне какой-то мещанский золотокрасный сутажик, тогда как хороший тон требовал широкой белой или черной тесьмы. Я терпеть не мог дурно одетых дам и любил гулять с Женей, потому что она была хорошо одета. Чаще всего мы ходили в Солодовниковский пассаж, в котором я знал наизусть все магазины: Ускова (материи), Рудометкина (приклад, сейчас же у входа, слева), Семенова (тоже приклад, но ужасно дорого!). Пассаж был местом прогулок, свиданий, ухаживаний. Московские львы в клетчатых серых брюках разгуливали по нему с тросточками или стояли у стен «заглядывая под шляпки», как тогда выражались. Пианист Лабоди, автор популярных вальсов, и крошечный офицер Тишенинов (впоследствии генерал) считались, кажется, первыми сердцеедами. В соседнем пассаже, Голофтеевском (где однажды в год служились молебны, после которых играл оркестр и публика гуляла по каменным плитам, устланным можжевельником), случилась со мною история. Мама зашла в меховой магазин Михайлова (в тот, у дверей которого дежурили полосатый тигр и бурый медведь с деревянным подносом в лапах), мне же велела ждать, сидя на скамеечке. Через несколько минут нетерпение, вечный враг, стало меня терзать. Я вообразил, что мама обо мне забыла и вышла в противоположную дверь: магазин был сквозной. Не растерявшись, решил я идти домой и стал искать, кто бы мог меня проводить. Наконец я увидел барышню, достаточно нарядную и хорошенькую блондинку, с которой не стыдно пройти по улице (блондинки мне нравились, я твердо решил жениться на блондинке, которую будут звать Марией). Подойдя к ней, я шаркнул, приподнял шапочку и сказал: