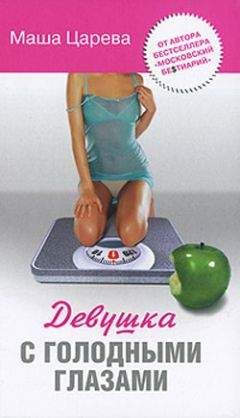- Очень хорошо, - сказала Михайлова. - Только рацию вы не получите.
- Ну, ну, - сказал капитан, - это вы бросьте.
- Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.
- В виде бесплатного приложения, - буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: - А я вам приказываю.
- Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать у меня вы не имеете права.
- Да поймите же вы!.. - вспылил капитан.
- Я понимаю, - спокойно сказала Михайлова. - Это задание касается только меня одной. - И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала: - Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дела.
Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, но превозмог себя и с усилием произнес:
- Ладна, валяйте, действуйте. - И очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал: - Сама додуматься не могла, так теперь вот...
Михайлова насмешливо сказала:
- Я вам очень благодарна, капитан, за идею.
Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.
- Чего же вы сидите? Время не ждет.
Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась:
- До свидания, капитан!
- Идите, идите, - буркнул тот и пошел к реке...
Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой это было бы приятно.
Если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах наверняка появилось бы мечтательное выражение. Свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.
В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:
- Но ведь другие могут?
- А если вас убьют?
- Не всех же убивают.
- А если вас будут мучить?
Она задумалась бы и тихо сказала:
- Я не знаю, как я себя буду держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.
И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:
- Нам теперь с матерью будет очень тяжело, очень.
- Папа, - звонко сказала она, - папа, ну ты пойми, я же не могу оставаться!
Отец поднял лицо, и она испугалась. Таким оно было измученным и старым.
- Я понимаю, - сказал отец. - Ну, что ж, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.
- Папа, - крикнула тогда она, - папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!
Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонисток.
Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:
- Будь осторожнее, деточка.
На курсах Михайлова училась старательно и во время проверки знаний волновалась, как в школе на зачетах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только число знаков передачи, но и ее грамотность.
Оставшись одна в лесу в эти дикие, холодные и черные дни, она первое время плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно, и хотя ей ужасно хотелось иногда, прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.
И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивилась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая с отмороженной ногой. А когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла своих глаз. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как дочь не любила класть его под мышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шепотом расстроенно говорила: "Она больна". А отец заталкивал в телефон бумажку, чтобы звонок не тревожил дочь. А вот, если враги успеют быстро засечь рацию, Михайлову убьют.
Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. На ней меховой комбинезон. Они, наверное, сдерут его. И она ужасалась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть отвратительными глазами фашисты.
А этот лес так похож на рощу в Краскове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвязан вот к таким же двум соснам-близнецам.
И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: "Только не в губы". А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.
Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили:
- Ты чего так расфрантилась?
- Подумаешь, - сказала она, - почему мне не быть красивой докладчицей?
И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, вспухшую ногу.
"Ну убьют. Ну и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну и меня убьют. Я хуже их, что ли?"
Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал в оврагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку.
Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов рации не было.
Пилоты на своих сиденьях и стрелок-радист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.
И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как песня сверчка, как звон сухого колоса на степном ветру, как шорох осеннего листа, этот звук стал поводырем огромным стальным кораблям.
Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радисты, бортмеханики - и Михайлова тоже - знали: бомбы будут сброшены туда, на этот родной, призывный клич рации. Потому что здесь - самолеты врага.
Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде, и, наклонившись к рации, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная нога онемела, боль в висках стискивала голову горячим обручем. Михайлову знобило. Она подносила руку к губам - губы были горячие и сухие. "Простудилась, - тоскливо подумала она. - Впрочем, теперь это неважно".