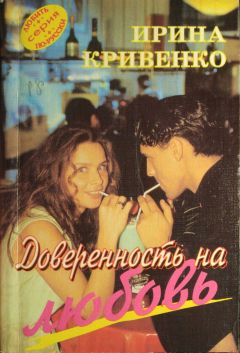Ружье мое и сума были переданы верховому их одноаульцу, ехавшему домой сложить добычу и запастись хлебом, чтоб опять преследовать отряд.
С восходом солнца я стоял под чинаром, неподалеку от своих: прочитал все молитвы, какие знал, обновляясь жизнью; мне не мешали. Обогрелось утро, к нам пришла жена старика и сестра его: старик был еще жив, предсказание мое не сбылось. Поплакали и понесли опять. Сестра, также как и я, шла не переменяясь; старуха шла позади, молча. Я отдал молодой свой лоскут холста, подкладываемый на плечо под носилки, и она, отговариваясь, взяла его с веселой улыбкой. Наконец мы спустилась совсем вниз, где приготовлена была для раненого арба: уложив больного на мягкую постель и подушки, сами мы пошли сзади. Дальше и дальше молодая развлекалась, поглядывая часто на меня сквозь слезы.
Не допросивши как зовут меня, они дали мне имя Судар. «Быть так!» сказал я в себе, когда Абазат, при переименовании, ударил меня по плечу. На мой спрос, хорошо ли это имя, Дадак (так, звали молодую, двоюродную сестру Абазата и родную больного Мики) улыбкой, подтвердила мне. С той поры все время я слыл под этим именем.
Не удалось мне слышать такого имени между ними, и сколько ни расспрашивал, говорили, что такое имя есть; мне же оно казалось почетным названием: хозяева, прежде мирные, вероятно не раз, слышали между нашими слово сударь. Как бы то ни было, Судар был встречен горцами как сударь.
* * *
Больной изнемогал, его положили на сани. Дорогой рассуждали обо мне, это было понятно, когда поглядывали на меня. Наконец один из Чеченцев спросил меня, умею ли я косить, показывая на траву и махая руками: я отвечал, что учился только писать, но могу привыкнуть и к этому. Я толковал и так и сяк, говоря: день, два, три — там буду мастером на все. Все были довольны.
Скоро показался аул; горцы обратись ко мне со словами «Гильдаган, Гильдаган!» так звали наше селение когда мы пришли к саклям. Начали сбегаться все родные и знакомые, начался плач. Я вошел было следом за ними, но мне показали другую саклю. У семейства которому я принадлежал, было три сакли. Горцы обыкновенно располагаются таким образом, что сакля самого младшего брата строится между саклями среднего и старшего — последняя приходится с левой стороны, следовательно сакля среднего брата будет справа от младшего, моего горца. Там меня встретила девушка, Хорха, сестра моей хозяйки Цапу, жены Абазата. Поменявшись селямом, я сел у стены на завалину. Со двора послышался зов; Хорха, выслушав приказание, тотчас поставила передо мной как-то оставшиеся куски сыскиля с биремом (Горцы, когда время пищи, тогда только и стряпают; куски остаются редко. Все это делается по мере. Бирем — давнишнее квашеное соленое молоко, беспрестанно разводимое то водой, то молоком, с приправою соли; кадушка стоит круглый год. К сыскилю подают в небольшой чашечке этого бирема ложки три.).
Не прошел час, как вдруг поднялся сильный рев и крик: старик умер. Девица была без чувств, любя Абазата, зная тоску его; пришел Абазат и, ударившись в стену, начал плакать. Было не до меня, я вышел вон.
Умерший старик, Мики заменял им всем родного отца. Место старшинства в фамилии занял родной брат умершего, Ака.
На плач и терзание Дадак я вышел было помочь другим удержать ее; но горькое ее «Урус! Урус!» заставило меня воротиться.
К вечеру замолкло все. На поминки была заколота корова. Ака сам принес мне ужинать, научал Абазата, как меньшего из рода, обращаться со мной ласковее, ободрял меня, говоря, что я заменю Мики, что мне будет хорошо, что они знают Бога, и что хотя у них нет такого белого хлеба, как у нас, но что будут рады всем, что Бог послал.
Наутро старика схоронили. Много собралось народу из уважения к убитому на поле брани, и после того посещение продолжалось долго. Каждый, пришедши на место памяти, должен остановиться пред толпою: все приподнимаются и читают смертную молитву, где в конце, при слове «фата'а», охватывают свои бороды.
Каждый раз я был подводим перед такое собрание. Босой, выступал я мерно и твердо, притом зная их полный аттестат — отважную поступь. Все любовались; при взгляде же на мои ноги, покачивали головой: приметно жалели, что на них скоро нарастет кора. При моем «эссалям алей кюм!» (Да будет над вами благословение Господне!) вся толпа учтиво приподнималась и отвечала мне тем же: «ва алей кюм эссалям!» (Да будет благословение также и над тобой!)
Горцы предполагала, что я сын Сардара, то есть значительной особы или министра, или сын какого-нибудь генерала, что я переодетый в солдатское платье офицер — и потому вступали со мной в суждения о многом, через двоих, бывших тут, звавших хорошо по-русски. Требовали моего мнения: как лучше им нападать, с которой стороны, представляя, что удобнее на арьергард; смеялись нашей попытке пройти Ичкерийским лесом. Любопытные, они хотели знать как живем мы, и когда я рассказывал им о наших знаменитых городах, все дивились, восклицая: «Астафюр-Аллах! Астафюр-Аллах!»
Любознательность их простиралась далеко. Они любят поговорить, зато мастера и посмеяться, если видят, что не хорошо. Умеют ценить дорого достоинства в человеке, но в азарте и самый великий человек может погибнуть у них ни за что.
Когда я сказал, что умею читать Коран, тотчас принесли книгу и заставили показать свое уменье на самом деле. Экзаменатором был мулла. Они говорили: «Останься у нас: ты будешь офицером». — «У меня есть мать, сестры и братья, а здесь все чужие; но поживу и посмотрю», — говорил я.
Вот как началась жизнь моя: со мною обходилось хорошо. Первую ночь я провел один, с шелковиками (Считаю лишним говорить, как, разводят червей. Шелк, или самые куколки, переваренный, теребят в руках как вату — и прядут. В некоторых местах горцы сеют и хлопчатку.). Встав утром, я умылся и утерся своим полотенцем, которое всегда было со мной в походе и служило, как невесте покрывало, защищая от зноя, тут я должен был отдать его своей хозяйке, удивляясь ее просьбе, и после уже утирался рукавом рубашки, пока была, а как износилась — обсушивался перед огнем. Я покорялся всему, потому что не видал насилий.
Через пять дней Ака купил меня за ружье, в три тюменя (или в тридцать рублей серебром, там торговля больше меновая). Он, как поопытнее других, предполагал, что я не солдат и надеялся взять за меня большой выкуп. Отгибая завороты шапки, часто он говорил мне: «Вот, если дадут за тебя эту полную шапку серебра — отдам». Но на мои слова, что я солдат, что он не получит и трети того, он скоро набрасывал ее на голову и начинал пошаривать угли в своем камине. Чтобы вывести его из печали, я радовал его словами: «Ты знаешь ведь солдатскую жизнь: лучше ли мокнуть на дожде или вот так сидеть с тобой у огня? Хотя я не работал, но привыкну и буду во всем помогать тебе. Он улыбался, покачивая головой.