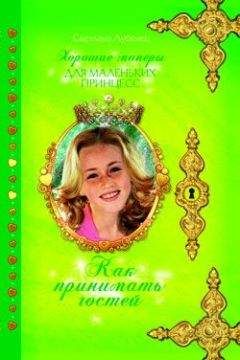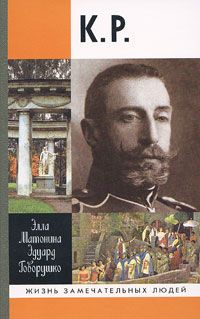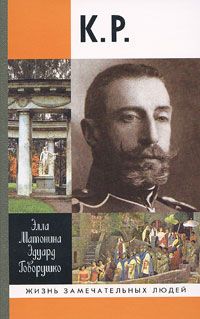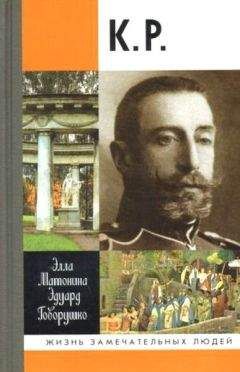мама там, на небе, избавили тебя от этого брака», – сказала сестра.
Он боготворил Лидию Стахиевну, свою Лидушу, умницу, образованную, талантливую – она раз и навсегда прервала роковую цепь его любовных неудач, все понимала и прощала его желание покрасоваться. Но сегодня Санин уловил другие, не совсем приятные для себя нотки. «Надо это индюшество прекращать», – подумал он, засыпая. Такого рода обещания он давал себе уже не раз.
Они возвращались домой поздним вечером. Весеннее небо светилось луной и звездами. Запахи остывающего жаркого дня – жасмина, сирени.
– Какой запах! Словно в Дегтярном переулке, чувствуешь? Знаешь, меня расстраивает Жюльен, Жюльен Ножен. Понимаю, молод, многого не видел. Но зачем эти гримасы, конвульсии, спекулятивные замашки современных фокусников в искусстве? Вспоминаю наши российские драматические школы. Тогда их расплодилось безмерно много, и велика была прыть желающих служить искусству. Просто эпидемия, эпидемическое движение какое-то…
– И я была застигнута этой эпидемией, как все потерявшие тогда нить жизни, отбившиеся от дела и мечтающие о сценических лаврах.
– Да, это была беда, имеющая общественный корень. Но ты-то при чем? С твоим музыкальным образованием, с твоим голосом, с твоей красотой, наконец? Ты, моя бесценная, при чем здесь? Да и кто сейчас мог бы мне помочь? Ты и только ты. Ну еще Мария Николаевна.
Лидия Стахиевна остановилась, внимательно посмотрела на мужа:
– Сашуня, Ермолова умерла. Ты хорошо себя чувствуешь?
– Прекрасно. А ты собралась опять в Вогезы меня отправить, лечить от депрессион нервюз? Неужто я выдержу без тебя, искусства, самой жизни еще раз? Я здоров, Лидуша, как бык! И вспомнил Марию Николаевну, потому что не принимаю ее смерти. Знаешь, с тех пор как мою мать схоронили, Мария Николаевна стала моей второй матерью. Я служу вечному ермоловскому искусству. Она вдохнула в меня чистый идеализм, проповедь добра, нравственности. Я ее вечный рыцарь! Лидуша, я самый молодой режиссер в мире, поверь мне. И знаешь, почему? Вот прошли годы, из юноши я стал мужем, теперь мне за шестьдесят. И я все еще молод, потому что во мне живы, юны и трепетны ермоловские идеалы. Я человек верующий и все думаю, что она умирала там, в Москве в самую тяжелую пору моей болезни. Как это странно. Об этой странности я даже дочери Ермоловой написал. Ты печальна, дружочек… Из памяти не идет этот незнакомец? Ах, Полин, Полин…
Лидия Стахиевна молчала.
В комнатах было не холодно, но сыровато. Лето еще не согрело парижские дома. После ужина Александр Акимович позвал жену посидеть в их любимой малой гостиной.
– Давай поговорим, – предложил он ей. – Все мы на людях…
«Малой гостиной» они называли комнату с камином, двумя удобными диванами, двумя круглыми столиками для чаепитий, большим секретером между окнами. На стенах только русские картины – Левитан, Коровин, Малявин.
– Пусть висит, – сказал тогда Александр Акимович, водружая подарок Малявина на стену. – Меня однажды назвали Малявиным сценических постановок. За то, что я, как этот художник, грубую, ничем не прикрытую черноземную силу и вольные движения показываю горящими красками.
Здесь бывали только они и, очень редко, сестра Санина Екатерина Акимовна. Санин пришел в гостиную раньше, долго возился у секретера, отпирая ящики. Падали папки, письма, газетные вырезки. Наконец появился на свет вишневый альбом с желтыми металлическими застежками.
Он проворчал что-то себе под нос, грузно устроился на диване, открыл альбом на первой странице, глянул и быстро закрыл. Стал ждать. Лидия Стахиевна пришла в мягком сером платье с перламутровой брошью на плече.
– Что это у тебя? – спросила негромко.
– Альбом с фотографиями.
– Ты взял его в большой гостиной со стола?
– Нет, я сам его составлял.
– И прятал?
– Прятал. Иногда смотрел в одиночку. Здесь все о тебе и немного о нас. То есть немного и обо мне.
С первой страницы на нее глянула фотография молодой барышни с высокой пышной прической.
– Что за странная была мода: пуговицы у меня на платье – каждая величиной с тарелку…
– Намек на то, что ты всегда любила поесть, Хаосенька. Как и я… Нет, не так. Ты – элегантно и со вкусом, я же не соображаю, что ем и сколько.
– Ты помнишь, какой это год? – спросил он неожиданно серьезно.
– Конец восьмидесятых, наверное. А может, и немного позже…
– А ты помнишь, что именно в этом году состоялось в Москве в доме Гинзбурга на Тверской открытие Общества литературы и искусства? И мы все там были. Совсем молодые-молодые…
– Все?
– Все. И ты, и я. И… Чехов. Мы не знали друг друга, но я тебя помню – красавица.
– А я думала, что ты запомнил только интеллигенцию, которая, как говорил Станиславский, «в тот вечер была налицо».
– Не смейся. Тогда налицо были Коровин, Левитан, оформлявшие зал. И великий Ленский, читавший рассказ Чехова «Предложение». Значит, и Чехов. А потом состоялся столетний юбилей Щепкина, и на нем была сама Ермолова и вся труппа Малого театра. А какие балы, маскарады в залах Благородного собрания! Станиславский – в костюме Дон Жуана, Лилина – Снегурочка. Вера Комиссаржевская – в хоре любителей цыганского пения. Были спектакли, выставки, художники показывали себя.
– Ты так все помнишь?
– Хаосенька, я же был десять лет бессменным секретарем этого общества. Станиславскому помогал. На сценических подмостках вместе появлялись. Я был его правой рукой. Иногда и двумя руками: и играл, и режиссировал.
Лидия Стахиевна отложила альбом, не тронув следующей страницы. Встала и несколько раз прошлась по гостиной, опустив голову.
– Ты фантазер, идеалист. Душу, дружбу и верность даришь самозабвенно. А тебя Станиславский – правую руку свою, на свадьбу не пригласил… Не его, элитарного, поля ты ягода! Да и расстался потом так легко с тобой, словно пушинку смахнул с рукава.
– Надеюсь, ты не хочешь меня обидеть, наступая на больную мозоль?
– Совсем нет, мой милый. Просто хочу сказать, что ты постоянно завышал свои ожидания, а потом мучился, когда они не оправдывались. А вот Чехов – как будто с малых лет знал – люди и жизнь разочаровывают. Чехов умел защищаться. Смотри, как он едет на собрание этого общества: облекается даже во фрачную пару, ждет, что будет бал. А говорит об этом небрежно. Какие цели и средства у этого общества – не знает. Что не избрали его членом, а пригласили гостем– его будто не трогает. Вносить 25 рублей членских за право скучать ему не хочется. Он заранее готов Суворину не только об интересном писать, но и о смешном. Но пишет не о смешном и не смешно, а