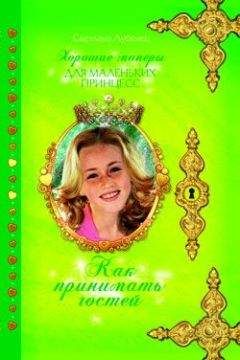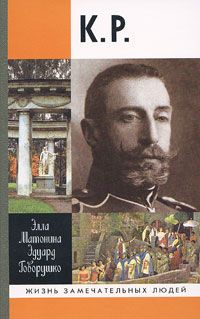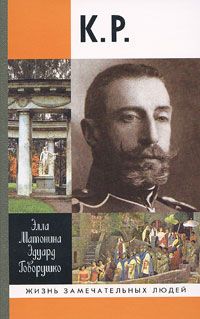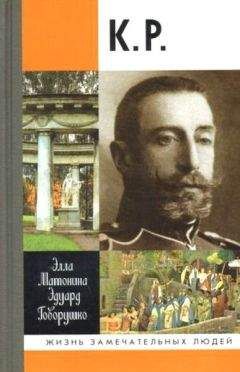нравились. Она взяла книгу, с уважением раскрыла ее, прочитала дарственную надпись и огорчилась за Лидушу:
– Умный человек, много интересного, умного пишет. Но как ты себя с ним ведешь, что он ерничает, словно издевается над тобой? Что это значит, например, «Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой от ошеломленного автора»? Чего он дразнит тебя армянской породой? Так ты ему скажи, между прочим, что среди твоих дальних предков сам Пушкин был! А это что за надпись такая, что он себе позволяет, в конце концов? «Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой, живущей в доме Джанулова от автора Тер-Чехианца на память об именинном пироге, который он не ел!» Это очень несерьезно и обидно! Как ты этого сама не понимаешь!
Бабушка ворчала, но внимательно и долго рассматривала подаренные Чеховым книги, потом смягчалась. Быть может, чувствовала, что душа ее любимой Лидуши ищет пристанища доброжелательного, понимающего. Ищет самостоятельности.
В доме на Садовой-Кудринской со смешным названием «Комод» Чеховы устроились после смены двенадцати квартир с 1876 по 1879 год. «Лика, ах, Ликуся, хоть Корнеев – собака, домовладелец, заставил занимать деньги, не хватало их (дал Лейкин), но я счастлив, что ваша подруга Ма-па – моя сестрица и старики здесь обосновались. Жили ведь на Якиманке, в помещении над буфетчиком, который сдавал зал под поминки или свадьбы. В обед – поминки, ночью – свадьбы. Жениху такая музыка была приятна, мне же, немощному, мешала спать». Наедине Чехов говорил с ней серьезно, как-то особенно глядя в ее глаза. Он не считал ее растяпой, растерехой, лентяйкой. Он и все в доме-«комоде» восхищались ею. Чехову было 26 лет, и дом был полон тогда молодежи. Даша Мусина-Пушкина, Варя Эберле, Дуня Эфрос, музыканты, литераторы. Все пели, играли, читали стихи.
Михаил Чехов, студент-второкурсник, отжаривал попурри из разных опереток с таким ожесточением, на которое был способен студент сангвинического темперамента. А она пела. Все говорили, что у Лики сочное красивое сопрано и надо идти на сцену.
А Чехов бросал работу внизу в своем простом кабинете с двумя окнами во двор, с кафельной печью, оливковыми обоями, столом и книжными полками, поднимался в гостиную, где главным было пианино, лиловые ламбрекены на окнах с тюлью и фикусы. И начинал дурачиться, со всеми шутить. Он говорил, что положительно не может жить без гостей; когда он один, ему становится страшно, точно он среди великого океана солистом плывет на утлой ладье.
Это было время взлета его славы. В марте его заметил Григорович, в феврале Алексей Суворин, редактор праволевой невозможно популярной газеты «Новое время» предложил регулярный субботник. Чехов не без удовольствия шутил, будто в Петербурге он самый модный писатель, – это видно из газет и журналов, где вовсю треплют его имя и превозносят его паче заслуг. И действительно, рассказы его раскупались, читались публично. Свет этой молодой славы падал на весь дом и на всех, кому посчастливилось в нем бывать. А Антон шутил: «Мне, Ликуся, теперь будут платить не по семь копеек, а по двенадцать, и я дам Ма-па десять целковых, и она поскачет в театр за билетами». «А у меня зато есть имение в Тверской губернии», – говорила она ему в ответ. Ей было так хорошо в этой «Малой Чехии», как называл дом в Кудрине поэт Плещеев. Неожиданно легко вспомнились плещеевские стихи, которые не вспоминались почти сорок лет:
Отрадно будет мне мечтою
перенестись сюда порою,
перенестись к семье радушной,
где теплый дружеский привет
нежданно встретил я, где нет
и светской чопорности скучной,
и карт, и пошлой болтовни,
с пустою жизнью неразлучной,
но где в трудах проходят дни…
Ах, как ей хотелось иногда рассказать все бабушке, чтобы она поняла, чем ее держит этот дом. Но когда появлялась дома, всякая охота вдруг отчего-то пропадала.
Лика иногда спускалась в кабинет Антона Павловича. Сколько раз стояла у его письменного стола, простого, крашенного масляной краской, смотрела на бронзовую лошадку, которая украшала чернильный прибор, на лампу с жестяным козырьком, передвигала по столу подсвечники – Чехов любил писать при свечах – и слышала от него, что он привинчивает себя к столу, чтобы писать. Что в привычку у него вошло работать и иметь вид рабочего человека в промежутке от девяти утра до обеда и после вечернего чая до самого сна. И что он – настоящий чиновник, а она совсем не чиновница. И наверное, бабушка права, что она ленива. Но Лида была весело ленива от его смеющегося взгляда. Кто-то заглядывал в кабинет. «Мешаете творчеству, Лика, – говорилось ей. – Вот Шиллер, работая, любил класть в стол гнилые яблоки, а вашему Чехову непременно надо, чтобы пели и шумели, а за спиной мазал Мишель изразцы печки в Кудринском стиле и чтобы не менее воняли гнилые яблоки. Все спасаете вы своим благоуханием, Лика».
Мишель, Михаил Павлович становился в позу и читал:
Лишь только к нам зазвонит Лика,
мы все от мала до велика,
ее заслышав робкий звон,
стремимся к ней со всех сторон.
Один из нас на низ сбегает,
ее насильно раздевает,
другой о дружбе говорит,
у третьего – лицо горит.
Она наверх к сестре заходит,
о дирижере речь заводит.
У ней всегда он на уме.
А кто-то шепчет ей: «Жаме».
…На светлом небе висела капля светлой звезды. Лидия Стахиевна закашлялась, выше взбила подушку, закрыла глаза. Неприятно сжалось сердце – ну вот, недоставало. Но глаза не открыла, а вспомнила вдруг запись бабушки Софьи Михайловны в ее ежедневнике: «Худо мне, быть разрыву сердца, плохо, едва дышу. Господь милостивый, прими меня, грешную. Простите все меня, дорогие мои, Серафима, Лида, а Лидушу так и не увижу. Пятьдесят рублей, которые у меня лежат в комоде, в корзинке отдайте Лидуше на дорогу. Когда умру, не желаю затруднений…
Нет, еще час не настал. Оказывается, осталась жива. Начали картофель сажать».
Лидия Стахиевна, засыпая, улыбнулась. Ей показалось, что у светлеющего окна стоят две фигуры – Чехов и она. Но за окном не Париж, а запорошенный снегом двор, палисадник, кустики, булыжная мостовая на Садовой-Кудринской. Выпал первый снег, и на душе такое чувство, которое описано Пушкиным в «Евгении Онегине».
«Ничего не вышло, не отвел я ее от больных воспоминаний. И затея с альбомом не получилась. Я думал,