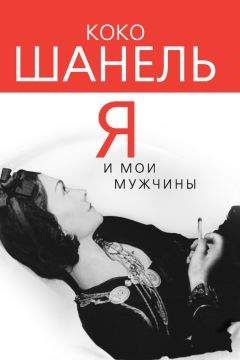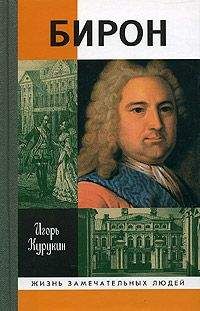По разным причинам она заставляла меня вспоминать о Мосаддыке[18] — говорю это не для того, чтобы поразить, и не ради красного словца. Прежде всего, мне казалось невероятным, неправдоподобным, что я нахожусь у нее, в ее роскошном салоне. То же чувство было у меня, когда в Тегеране я вошел в побеленную известкой монашескую келью Мосаддыка, единственным украшением которой были часы со стальным браслетом, висевшие на гвозде над ночным столиком.
В Тегеране была революция. Парижские газеты на восьми столбцах сообщали, что на улицах льется кровь. Лилась главным образом vodka-lime[19] в глотки журналистов, бросившихся в Иран со всех концов света. Было лето, стояла страшная жара.
Мосаддык говорил со мной по-французски. Вначале я понимал его не больше, чем Мадемуазель Шанель. Он говорил не так быстро, как она, но тоже с множеством отступлений. Казалось, он забывал о нефти, декламируя поэму Зороастры[20] о битве света и тьмы. Он просто возвещал о том, что происходит: более справедливое распределение мирового богатства уже не благодаря приводящей в отчаяние милости Запада, а из-за поднятия цен на нефть и другое сырье, которое мы покупаем в третьем мире.
Политика может быть благотворной, только если она соответствует морали своего времени, позволяющей большей части человечества жить в согласии. Вот истина, которую преподал мне Мосаддык, когда я сидел у его изголовья, счастливый и гордый тем, что он избрал меня среди двухсот моих коллег, чтобы посвятить в свой символ веры.
Шанель поставила передо мной ту же проблему, что и Мосаддык: найти золото в потоке слов. Говоря, она пронзала вас взглядом, как пронзают насекомое булавкой: вы слушаете? Вы меня слышите? С моих кроваво-красных губ срывается не пустой звук. У меня есть много что сказать, а меня недостаточно внимательно слушают. Думают, что я говорю, чтобы заполнить пустоту моей жизни. Вы эльзасец, кажется, вы способны быть внимательным. Сядьте возле меня. Отныне будем друзьями…
Так ли далека мода от нефти? В этом замкнутом мире деньги тоже добиваются победы за счет морали.
— Когда руководят журналом мод, нельзя допускать плохой вкус, — говорила Мадемуазель Шанель.
Мы подступали к сути нашей первой встречи, организованной Эрвэ Миллем, одним из самых старых друзей Коко, который после ее возвращения (ее come-back[21]) не переставал ломать за нее копья.
Можно ли вообразить покойного толстяка Ага Хана[22], слезающего с весов, на которых каждый год алмазами измеряли его вес, чтобы упрекнуть своих слуг за то, что они украли десять или двадцать каратов из более чем ста килограммов бриллиантов?
Великая Мадемуазель реагировала именно так: ее новая зимняя коллекция прошла с триумфом, и, однако, несмотря на поток похвал (ожидаемых, презираемых, необходимых, бесполезных), она раздражалась, улавливая некоторую сдержанность по отношению к своим неизбежным «костюмам-шанель». Кто эти журналисты, освистывающие меня?.. Она, которая ничего не просила, когда ей давали все, удивлялась, что дают так мало.
Накануне, на премьере своей коллекции, она заметила писательницу Эдмонд Шарль-Ру, в ту пору директора журнала «Вог», одетую во «что-то отвратительное». Разумеется, в платье из другого Дома.
— Почему ты надела его, Эдмонд?
— Мне его подарили.
— Тем более не следует это носить.
Лукавство и улыбка заставляли забыть ее возраст.
У нее были очень красивые круглые колени, которые она неустанно закрывала подолом юбки, складывая на них руки.
— Если бы я была журналисткой, пишущей о моде, то, приходя на презентацию коллекции, одевалась бы самым тщательным образом.
Глаз — черная булавка с золотыми искорками — допрашивал:
— Если бы были женщиной, вы бы пришли на демонстрацию моей коллекции в шанель, не так ли?
Слуга приносит цветы. От кого? Она бросает взгляд на карточку: Аведон, знаменитый американский фотограф.
— Какой дурак, — говорит она, скривив рот в недовольной гримасе.
И приказывает отнести букет в соседнюю комнату; она называла ее кладбищем.
— Туда ставят цветы, присланные людьми, которых я не люблю.
Несколько букетов оставалось в салоне:
— Это от тех, кого люблю, я сохраняю их даже увядшими.
Почему Аведон попал в немилость? Для репортажа в «Харпер’с Базаар», сделанного по сценарию Трумена Капоте[23], он фотографировал ее модели, которые выбрала и демонстрировала Одри Хёпберн. В Америке парижские моды оставались событием. Журналы соревновались в поисках писателей для репортажей.
Привлечь для этого Трумена Капоте! Я подумал: у них есть деньги? Коко было наплевать на гонорары писателя, ее возмутил выбор актрисы. Могла ли она смириться с тем, что Одри, одевавшаяся в жизни у Живанши, представляла в журнале Шанель?[24]
— Зачем им понадобилась иностранка? — ворчала она. — Нет, что ли, красивых девушек во Франции?
У меня перед глазами стояли чудеса, созданные ею для зимы: костюмы из твида, легкие, как гагачий пух, сногсшибательные романтические вечерние платья, черный бархат, кружева. Для каждой модели десяток находок. Платья Коко, как заметил кинорежиссер Франсуа Рейшенбах[25], — это музыка Великих. В них всегда находишь то, что ждешь, но и, сверх того, обязательно какую-нибудь неожиданность.
«Мари-Клер» два раза в год публиковала указы модельеров, анализируя их строжайшим и точнейшим образом: круглые воротнички, широкие плечи, высокая талия, подчеркнутая грудь, юбки до колена, прямые пальто, расклешенные платья, что там еще? Все это не сходило с уст наших дам, всего этого следовало придерживаться под угрозой прослыть старомодной — какое несчастье, какой позор для женщины! Но вот уже в 1959 году, после четырех лет возвращения Шанель, стало ясно, что все это не имеет больше смысла, потому что эту моду убил стиль Шанель.
Кто это знал?
Прежде всего этого не знали модельеры, считавшие, что они эту моду создали.
Мадемуазель Шанель делала вид, что презирает их. Однако эта властная императрица, казавшаяся такой уверенной в себе, была всегда полна тревоги. Она провела жизнь, балансируя на канате, который сама протянула над созданной ею пустотой. Чем больше я знал ее, тем больше хотелось мне ее узнать. При каждой новой встрече она казалась мне все более патетичной, часто вызывающей жалость, отравленной тайной, о которой сама уже ничего не знала. Она говорила:
— У меня не было времени жить. Никто этого не понял. Даже не знаю, была ли я очень счастлива. Много плакала, больше, чем обычно плачут люди. Была очень несчастна, даже когда приходила большая любовь.