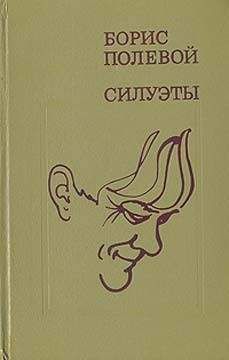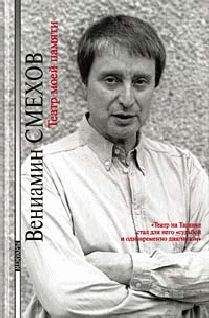Тем временем внучатая невестка его — разбитная молодая женщина — бросила на стол льняную скатерть, поставила тарелки. Обед был простой, крестьянский: щи, каша. Щи ели с кашей, заправляя льняным маслом. Яичница с крупно нарезанной колбасой шкварчала и брызгалась маслом на сковородке — это уже по случаю гостя. Водку поэт сам наливал из зеленоватой поллитровки, причем, раскупоривая бутылку, он одним ловким ударом ладони вышиб из нее пробку. Пил он охотно, но не хмелел: только розовели уши. Завершилась трапеза крынкой топленого молока, холодного, коричневого, душистого, с крепкой, будто бы жестяной, пенкой.
Потом на столе тоненьким голосом замурлыкал самовар свою самоварную песню. Поэт пил чашку за чашкой, вытирая со лба пот льняным полотенцем, лежавшим у него на коленях. Теперь уже не приходилось задавать ему вопросы. Старик разговорился, и, так как беседа перебрасывалась с темы на тему, я с удивлением убеждался, насколько широк круг интересов этого человека, восьмидесятилетие которого исполняется на днях. Новые книги советских писателей… Сельскохозяйственная коммуна, организовавшаяся где-то в верховьях реки Шоши, где Дрожжин уже успел не раз побывать… Сельсоветские дела, в которых поэт принимал горячее участие… Школа крестьянской молодежи как новая форма образования, очень ему нравившаяся. Народные суды. Оказывается, он был бессменным народным заседателем, и процессы, в которых он участвовал, помогали ему, пожилому человеку, наблюдать все новое, что приходило тогда в деревню. И он радовался этому новому, хотя, по его собственному признанию, и не совсем еще понимал его.
— «Мой», «моя», «мое» — на этом вся деревня наша держалась, — говорил он. — «Наше»-то — как оно, будет ли действовать?.. Лентяев-то, чужеспинников не наплодим? А? Есть такое у меня опасение… А любопытно: будто взошел ты на кручу, и столько перед тобой всего открылось, что голову кружит… Привычки, они веками слагались, а отвыкать вот за годы надо.
Он налил еще по стопочке. Со вкусом выпил. Крякнул. Довольно погладил негустую свою бородку, сквозь которую просвечивала розовая стариковская кожа.
— И опять же, все ли старое — оно плохо? Вот в Городне, что на Волге, церковуха. Комсомольцы требуют ее аннулировать, а общество не дает: споры-раздоры. Во время крестного хода в батюшку тухлым яйцом залепили: кончай служить, церковь под избу-читальню… А того не ведают и знать не хотят, что храм этот пять веков отстоял, крепостью против татар был, тверяки со стен его нашествие отбивали, Русь обороняли. То, что Радищев и Пушкин в ней по пути молились, — это им не известно… А тут закрывай, ломай… Сами не ведают, что творят. А не окна там, а бойницы, и вокруг не овраг, а ров… Это перл старинной архитектуры — в Питере таких нет. А они — переделать в читальную избу, и баста… Вот вы там заступитесь за тот храм в газетах — доброе дело сотворите…
И опять в желтом полумраке избы из трубы старого граммофона пели Вяльцева и Панина.
А вечером, когда стемнело и возница отправился уже запрягать лошадь, старик на прощание сам спел несколько песен, сложенных на его тексты. Если при чтении стихов голос его обретал какую-то искусственную хрипловатую трубность, в песне он креп и звучал мелодично, нежно…
— А ведь и Алексей Максимович спел мою песенку, — сказал старик, улыбаясь.
— Горький?
— Ну да… Недавно побывал я у него… Чаем он меня потчевал с каким-то непонятным вареньем. Из орехов. Чудное такое варенье… Невкусное… Но хорошо поговорили. Он пел. И вот написал на прощанье. Извольте глянуть.
Старик показал записную книжку, и в ней крупным, округлым, всему миру знакомым почерком было выведено: «На память старому поэту с удивлением перед его неиссякаемым творчеством — С. Д. Дрожжину М. Горький». И дата «28. IX 28 г. Москва»…
На прощание расцеловались. Шелковистые седины опрятно пахли табачком, хлебом. Провожать старик вышел не одеваясь. Так и стоял под луной, сверкая серебряной головой, пока сани, раскатившись на повороте, не скрылись за избой. А мороз к ночи окреп. Небо густо вызвездило. Снег круто скрипел под полозьями.
Уткнув нос в кисловато попахивающий тулупный мех, я обдумывал подробности необыкновенной встречи.
И так как голубовато мерцавшая хрусткая ночь располагала к необыкновенным мечтаниям, казалось мне, что в этот день сила какого-то волшебства занесла меня в середину прошлого века.
Таким он мне и запомнился, соловей деревни Низовка — как назвал его давеча земляк-подводчик. Таким вот, стоящим с обнаженной серебряной головой на морозном ветру, и вспоминаю я его всякий раз и теперь, проезжая по Ленинградскому шоссе и смотря на воды рукотворного Московского моря, похоронившего под своими водами маленькую деревеньку Низовку.
М. Горький РОЖДЕНИЕ «СМЕНЫ»
Все чаще вспоминаю я теперь одну старую, несколько странную, можно, пожалуй, сказать, уникальную дружбу, завязавшуюся в свое время между тверскими комсомольцами и Алексеем Максимовичем Горьким, жившим тогда, как говорится, за тридевять земель от наших верхневолжских краев.
В 1927 году Тверской губком комсомола решил преобразовать свой еженедельный листок «Путь молодежи», выходивший при «Тверской правде», в самостоятельную газету, которую после долгих и шумных дебатов в комсомольских кругах решено было назвать «Смена». Она еще и не родилась, эта «Смена», но вокруг заводилы этого дела журналиста Ивана Рябова, считавшегося среди нас классиком тверской молодежной поэзии, из энтузиастов и доброхотов уже выкристаллизовывался штаб будущей редакции. Это были юнкоры «Пути молодежи», уже попробовавшие свои перья на печатных страницах.
Вот закрою сейчас глаза, и передо мной встает шеренга этих будущих сменовцев, встает, как живая. Иван Рябов, ясноглазый парень с развевающимся пшеничным чубом, напевно читающий свои, но главным образом есенинские стихи; и вышневолоцкий юнкор Леша Исаков, трудяга и отчаянный рыболов со щекой, раздутой флюсом; и Григорий Пантюшенко — белокурый томный юноша, поэт, деликатнейший парень, старавшийся и писать и декламировать под Маяковского; и продавщица из книжного магазина Наташа Кавская, прехорошенькая девушка, щеголявшая по комсомольской моде тех дней в красной косынке и юнгштурмовке, туго перетянутой ремнем; и, наконец, будущий секретарь будущей редакции Самуил Аксельрод, в просторечии Мулька, но чаще всего Кислород, ибо прозвище это необыкновенно подходило к этому энергичному, жизнерадостному, подвижному парню.
Собирались в маленькой комнатке, где стоял единственный стол Кислорода, собирались и горячо обсуждали, какова же должна быть эта, еще только зачатая газета. Спорили, спорили и решили задать этот вопрос ее предполагаемым читателям — молодым текстильщикам Твери, Вышнего Волочка, обувщикам Кимр, рыбакам Осташкова, молодым крестьянам из пригородных волостей: что больше всего хотелось бы им видеть в своей газете? Написали от руки и разослали по комсомольским организациям сотни писем. Получили десятки ответов.