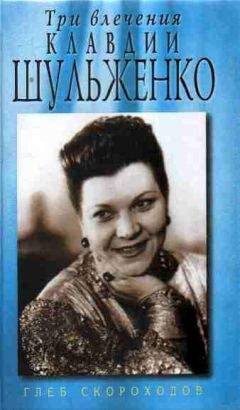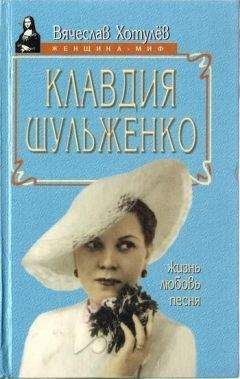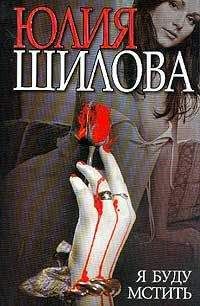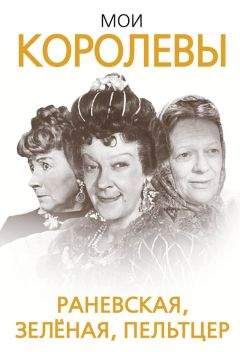Однако ее старания критики не заметили. Позже, когда певица исполнила те же песни в программе Нижегородского мюзик-холла, в одном из столичных изданий были опубликованы язвительные «Нижегородские письма» Вл. Ярополка, в которых содержался отзыв о выступлении Шульженко.
По мнению рецензента, исполненные Шульженко «песенки сегодняшнего дня» («к счастью, это уже вчерашний день!» – замечал в скобках критик) представляют из себя типичную дешевую, «интернациональную» экзотику. Удачное исполнение этих «песенок» не спасло певицу от законных упреков в сомнительном репертуаре».
Итак, удачное исполнение, но – «вчерашний день», «интернациональная экзотика», «сомнительный репертуар». Ни одного позитивного предложения, ни одной попытки поддержать певицу, отказавшуюся от «старинных» романсов – гарантии зрительского успеха.
Нижегородский рецензент не был одинок. Его точку зрения на репертуар Шульженко разделял и тогдашний председатель реперткома Н. Равич. Просматривая тексты песен накануне дебюта певицы в Москве, он наложил резолюцию на «Красном маке»: «Чепуха какая! Танцовщица в роли вождя революции!» Не меньшую иронию вызвала и «Гренада», зачисленная, очевидно, в ведомство «интернациональной экзотики»: «Революционер умирает с песней… «Гренада, Гренада!». Председатель реперткома предлагал исполнительнице срочно разучить другие произведения.
И здесь он был солидарен с рапмовцами – членами Российской ассоциации пролетарских музыкантов, у которых легкий жанр получил этикетку «классово чуждого пролетариату» творчества, с которым рапмовцы собирались вести длительную борьбу на уничтожение. «Запрещение и разоблачение легкого жанра – это только объявление войны, начало ее, но не конец», – писал в передовой статье рупор РАПМа журнал «За пролетарскую музыку».
«Цыганщиками», «фокстротчиками», «вредителями», «верными лакеями буржуазии» окрестили рапмовцы всех, кто не разделял их взглядов. Боясь как огня лирической задушевности, которой они неизменно противопоставляли «коллективную солидарность», выступая против бытовой музыки, против современного танца, рапмовцы тормозили развитие советской лирической песни, легкой музыки вообще.
Работы композиторов непролетарского происхождения, их попытки писать песни на современные темы рапмовцы или объявляли нэпманскими происками, или называли приспособленчеством. Фактически они отрицали право на творчество иных композиторов, кроме членов РАПМа.
В новогоднюю ночь загадываются желания и принимаются решения. И те и другие окрашиваются романтическим светом елочных огней и приобретают оттенок рождественских историй – сладких и трогательных одновременно: «Ах, как хорошо было бы, если бы…»
Но проходит праздник, осыпаются елки, сверкавшую еще вчера мишуру укладывают в коробки – до будущего года, и вместе с ними забывают о мечтах и желаниях, которые при свете дня теряют свою привлекательность – возможность осуществления.
Решение пойти в театр, «уйти в актрисы» Клавдия Шульженко приняла в ночь под новый, 1923 год. Приближалась ее семнадцатая весна – возраст, казавшийся ей чрезвычайно зрелым, – а еще ничего не было сделано! Хотелось немедленно бросить все – школу, занятия на фортепиано и посвятить себя наконец настоящему делу. Новогоднее решение Шульженко оказалось окончательным и бесповоротным.
И все же, когда Клавдия добежала со своей окраинной Москалевки до центра города и остановилась перед серым зданием Харьковского драматического театра, робость овладела ею. Столько раз она была здесь, входила с толпой зрителей в эти массивные двери, и смеялась, и плакала. А потом дома разыгрывала увиденное, исполняя все роли сразу. И как-то само собой получилось, что герои ее пьес часто пели – очевидно, они любили песню так же, как и она, как и ее отец. От отца она впервые услышала народные украинские песни, с отцом были связаны ее первые сценические впечатления. Бухгалтер Управления железной дороги, он играл на баритоне в любительском духовом оркестре, а иногда и пел соло в любительских концертах (термина «художественная самодеятельность» в те годы еще не существовало). И может быть, именно эти выступления родили у Шульженко первое влечение к сцене, к песне…
Массивные двери, к которым наконец направилась Шульженко, оказались заперты. «Значит, не судьба?» Но нельзя же, приняв решение, вот так просто уйти отсюда! Она постучалась раз, другой, третий. Безрезультатно.
Обогнула здание. Из двери, над которой висела потускневшая бронзовая табличка «Вход для гг. артистов», выходили люди в потрепанных одеждах. Старик швейцар, стоявший у порога, спросил ее:
– Ты к кому, девочка?
– Мне необходимо видеть главного режиссера театра Николая Николаевича Синельникова, – сказала Шульженко давно приготовленную фразу.
Швейцар оглядел ее. Перешитое из старенького, но модное пальто и маленькая меховая шапочка – нечто среднее между шляпой девушки и шапкой девочки – не вызвали у него подозрений. Он попросил подождать и, когда через несколько минут вернулся, сказал:
– Просят пожаловать.
Шульженко прошла на сцену. Здесь, очевидно, только что закончилась репетиция: в беспорядке стояли стулья, посередине – несколько деревянных ступенек от лестницы, ведущей в никуда, а возле кулисы – куст махровой сирени, за которым скрывался рояль. Николай Николаевич сидел в кресле у рампы – такой же седой, как и на портрете, оживленный, хотя и явно уставший. Возле него – несколько мужчин в пиджаках и рабочих блузах.
– Вы ко мне? – спросил он, заметив Шульженко, и пригласил: – Подойдите поближе. Я вас слушаю.
– Я хотела бы вступить в труппу руководимого вами театра…
Это была вторая и последняя из ранее приготовленных ею фраз.
– А что мы умеем? – спросил быстро Синельников.
– Все, – в тон ему выпалила Шульженко и уже почти робко добавила: – Петь, декламировать, танцевать…
– Пожалуй, спойте, – сказал режиссер и указал на рояль. – Наш концертмейстер поможет вам. Дуня, будьте добры!
Дуней оказался худенький молодой человек с четко наметившимися залысинками. Он отодвинул сиреневый куст и тихо спросил:
– Что вы будете петь?
– «Распрягайте, хлопцы, коней».
– А какой у вас голос?
Шульженко вспомнила свои домашние концерты, случайных прохожих, которые нередко останавливались под окнами, привлеченные пением, и уверенно ответила:
– Сильный!
Улыбнувшись, молодой человек объяснил, что речь идет о тональности, в которой собирается петь абитуриентка. После небольшого совещания удобный вариант был найден, и молодой человек объявил: