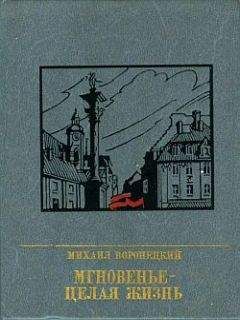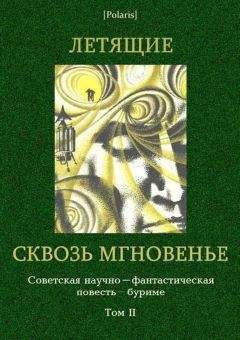Странное дело, до сих пор и потом, до самого конца жизни Людвика, никому не приходила в голову мысль о соперничестве с ним. Все, как само собой разумеющееся, признавали его верховенство, хотя сам Варыньский всегда готов был отдать пальму первенства. Но жизнь поворачивала события таким образом, что на гребне их всегда оказывался он сам. И Станислав Куницкий, этот польский Желябов, до самой виселицы считал себя только ближайшим сподвижником и последователем Варыньского.
Агент охранки, внедренный в созданные Варыньским «кассы сопротивления», доносил: система касс по сути своей представляет рабочую организацию, где каждая касса объединяет не менее трехсот человек, которые собирают взносы в забастовочные фонды, а избранный ими комитет руководит забастовками; руководитель «касс сопротивления» слесарь Ян Вух, а также слесарь Привислинской железной дороги Хенрик Дулемба на собраниях касс затевают дискуссии по экономическим и политическим вопросам, проводят обсуждение системы централизации и федерализации рабочих организаций…
Вскоре от провокатора охранке стало известно, что слесарь Ян Бух вовсе не слесарь, а проживающий по подложным документам видный революционер Людвик Варыньский, в свое время за организацию беспорядков высланный из Петербурга на родину. Выяснилось также, что снимающие у него угол жильцы Людвик Кобыляньский и Ян Томашевский — тоже революционеры, разыскиваемые полицией.
Жандармы нагрянули с обыском, но промахнулись: жильцам удалось скрыться.
— «Отцы сенаторы! До каких пор Катилина будет испытывать наше терпение!» — громко прочитал Феликс переведенную с латыни фразу. — Однако как же правильно — «будет» или «будешь»?
Феликс раскидал на столе бумаги, отыскивая свои вчерашние черновики, но найти не мог. Значит, опять заходила Хелена и унесла к себе перевод этой речи Цицерона против Катилины в древнеримском сенате.
— Хелена! — крикнул он в открытую дверь. — Ты не брала моих последних переводов?
Ответа не последовало. Когда же она ушла? Неловко искать на чужом столе, а делать нечего — завтра латинский первым уроком, а у него ничего не готово. Можно будет извиниться. Сестра тоже хороша — берет и никогда даже в известность не поставит…
К преподаванию древних языков в классических гимназиях относились в высшей степени серьезно, приготавливая своих питомцев к поступлению в университет, где лекции читали в основном на латыни. Ученики ежедневно получали задания — переводы с древнего на русский и наоборот.
Много неприятностей приносили переводы гимназисту Кону, но он был вознагражден тем, что получил возможность читать в подлинниках древних философов и писателей, изучать постановления и законодательные акты древних республик. Он стал задумываться над преимуществами республиканского строя, когда глава государства не наследует власть, а избирается народом, перед самодержавным…
Ничего не обнаружив на аккуратно прибранном столе сестры, Феликс машинально выдвинул верхний ящик. Его взгляд сразу же уцепил какую-то брошюру. Сначала он хотел просто полистать её, но, читая, увлекся. И вдруг понял, что это нелегальная брошюра и что, попади она в руки властей, сестре не миновать крепостных казематов.
Сестра, конечно, ужасно рассердится, узнав, что он без разрешения «конфисковал» ее, но делать нечего, придется пойти на это, чтобы преподать урок конспирации.
В окно, выходящее в сад, виднелась полуразрушенная беседка на высоком основании, обшитом полусгнившими досками. Лучшего места для тайника нельзя было отыскать…
Жандармы явились ночью. Они, как черти из преисподней, всегда являются ночью.
Ввалились толпой — как будто в разбойничье логово, а не в квартиру, где тихо жила вдова с детьми. Отворившую им дверь в переднюю пожилую замешкавшуюся служанку оттолкнули в сторону и наполнили квартиру запахами новенького сукна, свежевыбритых лиц, нагловато-вежливыми улыбками.
Жандармы молодые, рослые, казенно-щеголеватые, каждым жестом давали понять, что обыск для них занятие крайне неприятное и относятся они к нему формально настолько, насколько это позволительно по долгу службы. Не проявлял рвения и распоряжающийся обыском капитан Секеринский, хорошо известный варшавской молодежи мнимой либеральностью, за которой скрывались жестокость и коварство. Он тоже был молод, высок, красив, с преувеличенно извинительной миной на тонком смуглом лице. К сестре и матери Феликса обращался только по-польски, всякий раз просил прощения за то, что вынужден их потревожить, и был явно обозлен тем, что обе женщины молча выполняли все его просьбы и не собирались отвечать на его жандармскую сердечность.
От Секеринского не отходил широкоплечий, с осиной талией жандарм с очень молодым лицом. Он и в самом деле мог показаться человеком сердечным и доброжелательным, если бы не постоянная, словно впаянная в холеное лицо фальшивая улыбка. Именно он чуть сузившимися глазами показал капитану на письменный стол и в то же мгновение поймал испуганный взгляд Хелены.
Феликс, стоя в простенке между двумя высокими окнами в сад, видел, как побледнело лицо сестры, когда капитан медленно, словно нехотя, прошел к столу, так же медленно выдвинул ящики и через плечо вопросительно глянул на улыбчивого жандарма. Хелена, переведя дыхание, в недоумении поглядела на брата. Феликс понял, что она вечером не заглядывала в стол, и его перестали мучить угрызения совести за то, что он без ее разрешения изъял брошюру.
В четыре часа утра, перетряхнув все книги па полках и в шкафах, выкинув из туалетного столика склянки с духами и баночки с кремами, вывалив на ковер из комода белье и перевернув постели, жандармы прекратили обыск. Ничего «предосудительного» не было найдено, и Феликс совсем было успокоился, полагая, что через несколько минут, когда будут соблюдены все формальности в связи с необоснованным обыском, жандармы уйдут и семья, успокоившись, разойдется по своим комнатам. Но Секеринский, натягивая перчатки и почему-то пристально глядя на розовый абажур настольной лампы, сказал:
— Вас, пани Паулина, и вас, пани Хелена, я, к сожалению, должен препроводить в управление.
Хелена, гневно сверкнув стеклами пенсне, прерывающимся голосом спросила:
— По какому праву? Среди ночи врываетесь в частную квартиру… Всю ночь мучаете без сна… Ничего не находите… И что же? Вместо того чтобы извиниться, тащите в свое мерзкое учреждение, даже не потрудившись объяснить причины ареста… — Хелена махнула рукой и, торопливо одеваясь, все продолжала говорить: — Впрочем, о каком праве может идти речь? Здесь существует только одно право — на произвол властей и бесправие граждан…