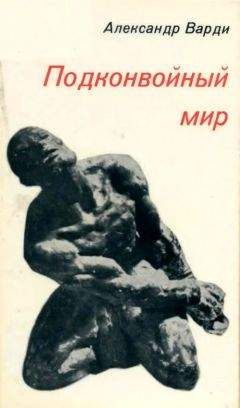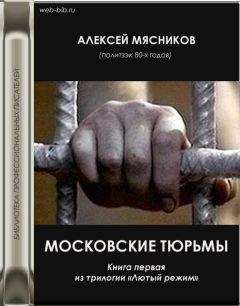— А ты, пахан, тоже с красной книжицей? — обратился Черепеня к высокому, очень отощавшему, заросшему седому старику.
— Нет, я — реэмигрант.
— Ясно. На родные березки аппетит промеж ног поднялся. «Расея, дожди косые» и щи пустые, мне не забыть вас никогда. Знаем. Видали. За что боролись — на то и напоролись. Покажут тебе, старик, где березки-подружки и вертлявые кукушки. Девять кубов «подружек» на рыло надо свалить, обрубить, разрезать, снести в штабель, сжечь сучья, чтоб пайку хлеба и глоточек тресочки отхватить.
«Тресочки-то не поешь — не поработаешь». «Чайку-то не попьешь — откуда сила-то!» «Хлебушко оржоной с примешанной осотой и лебедой — оченно пользителен», — говаривал корешь мой вологодский.
— Ты! Слышь, елдаш, сухарями не шебурши, — обратился Черепеня к таджику, копавшемуся в своем мешке. — Сиди, не вертухайся, сидор уже не твой — общественный, колхозный, — наш. Сам знаешь: ваше — наше, и наше — наше. Частная собственность — это воровство. Ты лучше с мыслями соберись. Работать будешь километрами, а получать — граммами, кувалду дадут большую — на одного, а котелок маленький — на двоих, и никому не будет дела, что курсак твой — пустой, что сем раз ты болной, что язык костяной, что зовут «Ибрагим — работать не могим».
— Слушай, фраера, — повысил вдруг голос Черепеня, — жди терпеливо. До всех дойдет очередь. С душой работаем. Не все изымаем.
— Что это у вас, землячки, мясца не припасено? — дружелюбно допытывался Черепеня, упиваясь, видимо, своим великодушием. — Все сало и сухари, сухари и селедка.
— Детский вопрос, товаришок, — отозвался кто-то со второго этажа. — Откуда быть мясу, когда бараны пишут диссертации, свиньи разъезжают на «победах», а коровы вышли замуж за офицеров.
— Э…! Да ты, батя, говорок?
— Говорок — не говорок, а на чужой роток не накинешь платок.
— Как жизнь?
— Жизнь как в сказке: налево пойдешь — пуля в затылок, направо — в пытках помрешь, прямо — в шахте доконают.
— За что сидишь?
— Ноги разные: одна — левая, другая — правая, значит — виноват.
— Ясно. Мантулил? Троцкист? Бухаринец? Праволевацкий? Хоть с чертом, но против бати? Кто же ты? Какой масти? Из бывших? Бытовик? Не похоже. Чую нутром, что политик ты чистой воды. Дыхало у тебя этакое парящее, а у меня нюх наметан. Может религиозный? Опять нет.
— Русский социал-демократ я. Меньшевик.
— А… а. Давно таскают?
— С перерывами — третий раз. В 1918 амнистировали. В 1936 через ОСО провернули. Теперь, после нападения на Корею схватили и больше года под следствием мурыжили. Дали — как обычно: 58–10, 11 — двадцать пять за то, что тридцать пять лет назад на путиловском за меньшевиков голосовал.
— Злопамятны. Боятся. Да кого только они не боятся? «Щипач»! — обратился Черепеня к Гарькавому. — Верни все бате.
— У него недозволенных включений не обнаружено, — отрапортовал Гарькавый. — Камсу всем оставляем. Хлеб — верну. Пальтишко на рыбьем меху — старенькое — оставил.
— Что ж ты, старик, отощал, без загашника?
— Как не отощать? Родные в Копейске. Меня на Лубянке держали и, конечно, никаких передач. Уверен, что родные не знают, где я, жив ли.
— Ну, так с нами сейчас пойдешь. Мы в другое купе пересядем. Сыт будешь.
— Не пойду, — решительно отрезал меньшевик.
— Брезгуешь? Почище тебя с нами бывали, — обиделся Черепеня. — Я в лагере три года на одной доске с московскими профессорами жил: с Брагиным, Гольдштейном, Гоникманом. Многому научился. Два года с певцом Вадимом Козиным душа в душу жил. Лидию Русланову сопровождал по лагпункту, чтобы не изнасиловали. С поэтом Ярославом Смеляковым полтора года до войны на Ухте вкалывал. Дружками были. Профессора Ульяновского близко знаю — Ростислава Александровича. С Косиором вместе на Воркуте сидел. Сестре Бухарина покровительствовал.
— Верю, — буркнул меньшевик.
— Может боишься, изнасилуем? Не дрефь! Свободы мне не видать, рот мне разорвать, фраером буду… По ростовски нараспев побожусь!
— Не взыщи, останусь тут.
— Воля твоя, батя. Обижаешь. Я страсть как охоч до бывалых, ученых. Мне лагерь интереснее воли потому, что здесь на каждом шагу настоящие люди, а на воле — кастрированные, оглушенные, запутанные кролики, оболваненные эгоисты, придурки, серяки с отбитыми памерками и над ними мастодонты, мокрушники, сосатели. Как зовут тебя, батя? Будем знакомы. Я — Олег Иванович Черепеня, по кличке — «Запридух».
— Я — Николай Денисович Кругляков.
Черепеня соскочил вниз:
— Кончили шмон, хлопцы?
— Ждем команды «Саморуба».
Через минуту с середины вагона послышались крики:
— Начальничек! Сажай в отдельное купе!
— Нас тут контрики развращают!
— Не хотим сидеть с фашистами! — орал «Клык».
— Пейте мою кровь, сосите с меня соки! — визжал Гарькавый.
— Начальник, нас тут политической невинности лишают! — с напускной серьезностью выкрикивал Черепеня.
В проходе показался ефрейтор.
— Что за крик?! Вы меня не знаете, так вы меня узнаете! — петушился ефрейтор.
— Зови старшого! — кричали хором воры.
— Акулы Уолл-Стрита нас вербуют!
— Барахла надавали, лишь бы мы в банду Рокфеллера подались!
— Проводите промеж меня воспитательную работу, а то я за себя не ручаюсь! — блажил хохочущий Хрущев.
Гвалт поднялся яростный. Воры стучали в решетки, стены, пол. Все двадцать пять глоток выли, свистели, улюлюкали в разных клетках. От шквала похабнейшей ругани, казалось, померкли лампочки.
— Отдельное пролетарское купе! — кричал Черепеня. — Для верных сынов народа! Для блока коммунистов и беспартейных! Для авангарда прогрессивного человечества!
— Нас враги народа удушат! — вторил Хрущев, — заразят нигилизмом, в идеалисты постригут.
Старший сержант, притворно негодуя и матерясь, открыл два купе в конце вагона и перевел туда воров.
Малинин, выходя из центральной клетки, потащил с собой Пивоварова, одетого в лагерные тряпки.
— Что упираешься, сука! — кричал Малинин на Пивоварова. — С тех пор как выскочил из ворот, откуда вышел весь народ, воруешь, а сидеть с фраерами хочешь? Кровь их пить!
— Чего кобенишься, — поддержал Малинина старший сержант, отмахиваясь от лепета Пивоварова. — Топай!
Пренебрежительно он толкнул Пивоварова, и воры, улюлюкая, потащили его с собой.
4Плотно поужинав, старшие воры забрались на среднюю полку, уселись по-турецки кружком и принялись за карты. Их обнаженные по пояс тела пестрели порнографической татуировкой и рубцами.
А внизу, Сеня Гарькавый, без времени состарившийся мальчик, напевал дребезжащим альтом: