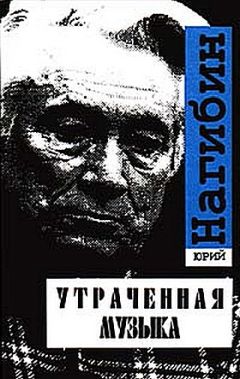Но это был странный антисемит. Он не похож на многих юдофобов — как прошлого, так и современных. Он не одержим ненавистью к евреям и не теряет способности воспринимать аргументы, опровергавшие его доводы. Да и не столь уж постоянен в своих суждениях о качествах этого несимпатичного ему народа. Юдофобские высказывания чередуются у него с признанием исторической роли «великого племени», его необыкновенной жизненной силы и констатацией того, что существует «некая идея, движущая и влекущая» этот народ. «Нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнесть своего последнего слова».
Мы могли бы ограничиться констатацией того, что Достоевский так и не нашел достойного ответа на вопросы и обвинения Ковнера ни в письме к нему, ни в «Дневнике писателя», что аргументы, которыми Достоевский пытался оправдать свое враждебное отношение к евреям — от вековечного стремления к эксплуатации других народов с помощью «золотого промысла» до ненависти к русским, — не выходят за границы хорошо знакомого и привычного круга утверждений на эту тему. Однако именно Достоевский впервые свел в своеобразную систему все возможные реальные доводы и фантастические измышления, которые постоянно предъявляют как обвинение еврейскому народу.
Именно в ходе полемики Достоевского с Ковнером отчетливо высветились две ипостаси великого русского писателя, два его духовных лика. В ходе этой полемики Достоевский непрерывно борется с собой. Провозглашает взаимоотрицающие положения, выдвигает очередное обвинение и вскоре предполагает возможность оправдания. Опускается до самых черных наветов на еврейство и затем со страстью уверяет читателей, что он не враг евреев. Ярче всего это видно, наверное, в последнем разделе его главы из «Дневника писателя», который он напечатал под многозначительным заголовком «Но да здравствует братство!».
Достоевский призывает здесь к «прекрасному делу настоящего братского единения» между русскими и евреями. Но как бы сам пугается сказанного и спешит его перечеркнуть. Для этого излагает пришедшую ему на ум «фантазию» о том, что, получив равные с русскими права, евреи могут «всем кагалом» нахлынуть на освободившихся от сельской общины мужиков, и тогда настанут времена похуже крепостничества и татарщины. Опомнившись, скажет, что все-таки стоит «за полное и окончательное уравнение прав потому, что это Христов закон», потому что это христианский принцип, и тут же — не переборщить бы! — замечает, что видит здесь препятствия не столько со стороны русских, сколько в гораздо большей степени со стороны самих евреев. Поскольку именно сами евреи с предубеждением относятся к русским и, часто соединяясь с врагами русского народа, обращались в его гонителей. Правда, фактов, подтверждающих это тяжкое обвинение, Достоевский не приводит, и оно, как и многое другое, остается на его совести.
Однако Достоевского недаром называли совестью русского народа. Все метания и искания приводят его в конце концов к однозначному и важнейшему выводу. «Но „бу́ди! бу́ди!“», — восклицает он, делясь своей мечтой о всеобщем братстве. — «Да будет полное и духовное единение племен и никакой разницы прав!.. и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему!».
Нет, не случайно, пропагандируя тексты Достоевского, цитируя и комментируя их, современные антисемиты как правило опускают и замалчивают окончание его главы, посвященной еврейскому вопросу. Еще бы! Фанатизм — безразлично, политический, религиозный или национальный — всегда бесчестен. Националистические фанатики прекрасно понимают, что, произнося свое знаменитое «бу́ди! бу́ди!», духовный провидец оборачивается ко всем людям своим настоящим — светлым ликом.
Размышляя ныне над суждениями Достоевского в его полемике с Ковнером, вдохновляясь его пророчеством о неизбежном братстве русского и еврейского народов, невозможно не задаваться вопросом: реально ли воплощение в действительность его идей в ситуации, сложившейся сейчас в России? Когда с каждым днем крепнет юдофобское движение — своеобразный идеологический союз фашиствующих национал-патриотов и расистов, в который входят не только запакованные в черную униформу со свастикой на рукаве активисты РНЕ, политические деятели вроде генерала Макашова и губернатора Кондратенко с их антисемитскими и антисионистскими эскападами, но и некоторые представители литературы и искусства и даже часть научной, академической элиты. И когда, как во времена Достоевского, полемика вокруг еврейского вопроса привела к расколу русской интеллигенции. Лакмусовая бумажка отношения к евреям в России безошибочно показывает падение нравственного уровня значительной части российского общества. Прежде всего — его интеллектуального слоя.
Конечно, и раньше среди русских интеллигентов всегда находились люди чистой совести. Люди, органически неприемлющие любые проявления антисемитизма. Среди них — Лев Толстой, Лесков, Горький и Короленко, Бердяев и В. Соловьев… Их всегда было немного. Но именно они спасали честь и достоинство русской интеллигенции.
Однако сейчас речь идет не только о роли и значении идей Достоевского в современном российском обществе. Речь идет о неизмеримо большем: решение еврейского вопроса в России оказалось тесно сопряжено с ее судьбой, с русской культурой.
Их будущее во многом зависит от русской интеллигенции. От выбора, который она сделает в борьбе, развернувшейся в нашей стране в конце XX столетия вокруг важнейших проблем общественного развития. В том числе и от того, найдет ли она в себе силы возвыситься до призыва Достоевского к тесному единению «племен» многонациональной России, к братскому союзу русского и еврейского народов? Этот выбор определит не только участь евреев, оставшихся в России. Во многом он определит судьбу и самой русской интеллигенции, ее роль в истории своего народа.
Вопросы, которые когда-то Ковнер — герой книги Л. Гроссмана — с болью и горечью задавал Достоевскому, звучат и в наши дни. Они все еще остаются без ответа.
Исполнится ли пророчество, которое великий русский писатель с такой надеждой возвестил в своей полемике с безвестным бутырским заключенным?
Бу́ди ли?
Профессор С. Гуревич.
В начале 1877 г. Достоевский среди десятков писем, ежедневно получаемых им от читателей «Дневника писателя», получил одно, сильно поразившее его. Оно шло из московской тюрьмы и было подписано незначащей еврейской фамилией.