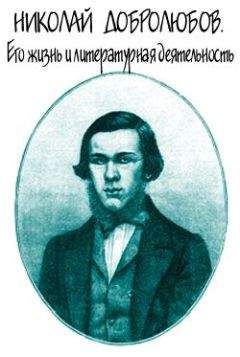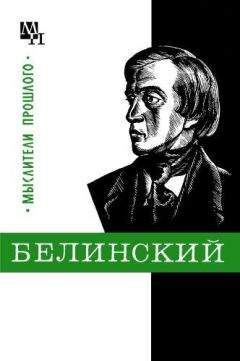Между тем шло своим путем и внутреннее развитие Добролюбова, проходя те фазы, какие в то время переживали все люди его поколения. Так, первым выходом из детской непосредственности были религиозная экзальтация и суровый аскетизм, в какие вдался Добролюбов с 17-летнего возраста. В этом сказывалось стремление пробуждающегося ума отнестись сознательно, серьезно осмыслить то воспитание в духе религиозного благочестия, какое получил Добролюбов в доме своих патриархальных родителей и в семинарии. Так, по словам Кострова, он был самым набожным человеком в Нижнем, считал за грех напиться чаю в праздничный день до обедни, после исповеди до причастия даже воды не пил, всегда молился усердно и с глубоким чувством. Во время говенья в марте 1853 года он вел весьма любопытный дневник своих прегрешений под заглавием «Психоториум», т. е. углубление в душу:
«7 марта 1853 г. 1-й час пополудни. Ныне сподобился я причащения пречистых Тайн Христовых и принял намерение с этого времени строже наблюдать за собой. Не знаю, будет ли у меня сил давать себе каждый день отчет в своих прегрешениях, но, по крайней мере, прошу Бога моего, чтобы Он дал мне положить хотя начало благое. Боже мой! Как мало еще прошло времени и как много лежит на моей совести! Вчера, во время самой исповеди, я осудил духовника своего и потом скрыл это, не покаялся; кроме того, я сказал не все грехи, и это не потому, что позабыл их или не хотел, но потому, что не решился сказать духовнику, что еще рано разрешать меня, что я еще не все сказал. Потом я сетовал на отца духовного, что он не о многом спрашивал меня; но разве я должен ожидать вопросов, а не сам говорить о своих прегрешениях? Только вышел я из алтаря – и сделался виновен в страхе человеческом, затем человекоугодие и, хотя легкий, смех с товарищами присоединились к этому. Потом суетные помышления славолюбия и гордости, рассеянность во время молитвы, леность к богослужению, осуждение других увеличивали число грехов моих…»
Этот ежедневный список «прегрешений» с благочестивыми укоризнами себе вел Добролюбов с 7 марта до 9 апреля, так что набралось целых 32 страницы за эти 34 дня. Все они, разумеется, похожи один на другой; вот, например, 29 страница «Психоториума»:
«4 апреля, 12-й час пополудни. Опять те же грехи в эти два дня: леность к молитве, рассеянность и легкомыслие, осуждение и насмешка, неприязнь к ближнему, вольные суждения, ложь, хитрость и притворство, призывание лукавого, честолюбие и славолюбие, предание чувственности, чревоугодие и лакомство» и т. д. Список этих прегрешений заключается словами: «Господи! Спаси мя, не остави мене погибающа!»
Но аскетизм и самобичевания не были, конечно, исключительным содержанием жизни Добролюбова. Рядом с этим духовно-нравственным возбуждением шли разного рода впечатления и влияния, навеваемые и книгами, и жизнью. Так, рядом с перечислениями «прегрешений» Добролюбов, по его собственным словам, «хотел походить на Печорина и Тамарина, хотел толковать, как Чацкий». Вместе с тем, читая списки грехов, вы видите в числе их первые проблески тревожных сомнений, которые все более и более начинают овладевать юношей, и тщетно он гонит их от себя. Начинается для него период рефлексий и романтических порывов. Как мы видели в описании 1 января 1852 года, у него была уже какая-то «одна», провести вечер в обществе которой ему было особенно приятно. В то же время с презрением и ненавистью начинает смотреть юноша на всю окружающую его пошлость губернской жизни. «Все пошло, глупо, мелко, – восклицает он в своем дневнике, – ничто не удовлетворяет порывов высокого ума, глубоко чувствующего сердца…»
Голова его, между тем, наполняется мечтами об университете, о литературной славе, и вместе с тем он страстно привязывается к учителю немецкого языка Ивану Максимовичу Сладкопевцеву. Привязанность эта, имевшая, конечно, реальные основания в виде благотворного влияния Сладкопевцева на развитие юноши, тем не менее носила вполне романтический характер, соединяясь с той безотчетной влюбчивостью в своих любимых наставников, какую нередко испытывают 17-летние мальчики. Так, Добролюбов, еще не видав Сладкопевцева, успел уже заочно влюбиться в него по одним слухам, распространивши свое обожание даже на внешность предмета любви.
«Смутно я постигал что-то прекрасное, – говорит он в письмах Сладкопевцеву, – в этом соединении понятия: брюнет, из петербургской академии, молодой, благородный и умный… Не говоря уже об уме и благородстве, надо заметить, что я особенно люблю брюнетов, уважаю петербургскую академию и молодых профессоров предпочитаю старым. Я с нетерпением ждал минуты, когда увижу вас, и во все это время я чувствовал что-то особенное… Чего ищешь, то обыкновенно скоро находишь; на следующий же день я с полчаса прогуливался по нижнему коридору и дождался-таки вас. Правду сказать, при моей близорукости я не мог хорошо рассмотреть вашей физиономии; но и один беглый взгляд на вас достаточен был, чтобы произвести во мне самое выгодное впечатление. Я люблю эти гордые, энергические физиономии, в которых выражается столько отваги, ума, мужества. Признаюсь, я несколько ошибся, когда признавал вас существом гордым и недоступным; но это было тогда полезно мне тем, что я стал с того времени считать вас чем-то высшим, неприступным, перед чем я должен только благоговеть и смиренно посматривать вслед, жалея, что не могу взглянуть прямо в глаза».
Это благоговейное «смотрение вслед» продолжалось около года. Все это время юноша обожал своего учителя издали, не смея и думать сблизиться с ним, издали радовался и печалился, боялся и стоял горой за своего кумира. Когда случай наконец свел его со Сладкопевцевым, он шел к нему с тем трепетом, с каким идут на первое свидание. Познакомившись с учителем, Добролюбов еще более привязался к нему.
«Что-то особенное привлекало меня к нему, – пишет он в своем дневнике, – возбуждало во мне более чем привязанность – какое-то благоговение к нему. При всей короткости наших отношений я уважаю его, как не уважал ни одного профессора, ни самого ректора или архиерея, – словом, как не уважал ни одного начальника. Ни одним словом, ни одним движением не решился бы я оскорбить его, просьбу его я считал для себя законом. Вздумал бы он публично наказать меня, я послушался бы, перенес наказание, и мое расположение к нему нисколько бы от того не уменьшилось… Как собака, я был привязан к нему и для него я готов был сделать все, не рассуждая о последствиях и т. д.».
Но блаженный мир золотых мечтаний о славе, науке, университете и упоение бескорыстного детского обожания – все это вскоре было разрушено самым безжалостным образом суровым холодом жизни. Первыми рассеялись мечты об университете, встретившие решительный отпор со стороны отца.