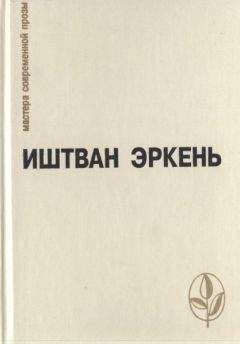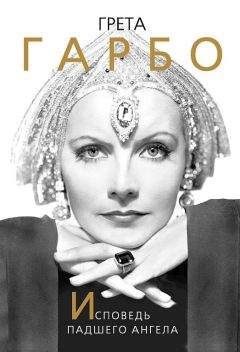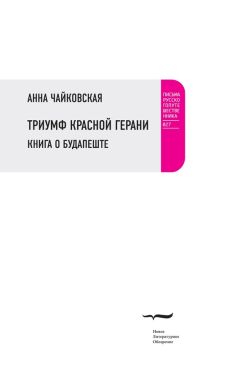Не было удовольствия больше, чем наблюдать, как изменялись лица зрителей, стоило только на сцене появиться «женщине». Не забуду свое впечатление от Джульетты, роль которой исполнял слесарь из Кёльна по имени Хайнц Хюнербайн. Он стоял на крохотном балкончике, и на плечи его ниспадала волнистая грива ослепительной красоты. Парик был сделан из тончайшей медной проволоки, «позаимствованной» театральными фанатами в заводском цехе, и весил, наверное, килограммов пять. Прелестной Джульетте стоило большого труда удерживать прямую осанку. Сшитое из марли воздушное белое платье оставляло открытой до пояса спину с длинным розовым шрамом под левой лопаткой — след осколочного ранения, полученного Хюнербайном под Сталинградом. Сцена эта вызывала трепет, как в великие моменты жизни. Сотни зрителей в зале долгими месяцами, а то и годами не видели настоящей женщины, а тут этот переодетый немец в парике…
Поистине война была для меня крупнейшим, судьбоносным событием в жизни. Как ни парадоксально звучит, но именно тогда я стал человеком. Ведь если разобраться, кем я был до войны? Изнеженным, более-менее — скорее менее — образованным человеком, на счету которого имелась тонюсенькая книжечка рассказов. В шестикомнатной вилле у меня была своя комната, а в лагере, — если не ошибаюсь, — наш барак вмешал восемьсот человек. Нары в два ряда, сами бараки глубоко врыты в землю, до сих пор словно воочию перед глазами — засыпанные снегом, они почти сливаются с пейзажем. И вдруг я очутился среди множества людей, стал крохотной песчинкой, настолько ничтожной частицей общей массы, что даже имени моего никто не знал. Здесь не существовало ранговых различий, не было бедных и богатых, каждому полагалось одно и то же: пайка хлеба, утром миска баланды, в обед каша, на ужин снова каша. Я слился с окружающей средой.
В лагере я постиг важную истину: то, что представляется однообразной массой, таит в себе разные судьбы. Самим фактом своего существования я обязан людям, которые поддержали меня в трудную минуту или спасли мне жизнь, когда я был ранен. В самом начале военных странствий я подцепил сыпной тиф. Из этой хвори мало кому удается выкарабкаться, а тот, кто выжил, знает, что после почти ничего не помнишь: тиф на месяцы отшибает память… Впоследствии мне рассказывали, что, когда у меня подскочила температура, я попросил одного из своих товарищей сварить раздобытые где-то мною три картофелины, после чего потерял сознание и три недели провалялся без памяти. А потом, придя в себя, первым делом поинтересовался, сварилась ли картошка. Так вот этот мой товарищ все это время находился возле меня в разбитой снарядами мельнице, кормил и поил меня с ложечки.
С тех пор я считаю: максимум, что один человек может дать другому, — это солидарность. Вся моя человеческая этика базируется на этом слове, оно же является ключевым и в моей писательской деятельности.
В девять утра, на второй день Рождества 1946 года, после двухнедельной тряски поезд подкатил к обугленным стенам Восточного вокзала, к тому самому перрону, откуда пять лет назад я (в белой парадной форме) отбыл на войну. Наполовину вольный человек, наполовину пленный, я стоял на ступеньках главного входа, красуясь в живописных лохмотьях: облезлом, вытертом на локтях и на спине венгерском армейском полушубке, в итальянских горных ботинках и шапке-ушанке, единственное уцелевшее ухо которой мотаюсь при ходьбе, и с узелком в руках, где хранились десяток рассказов, одна пьеса и социографическое исследование. Я перебывал во множестве лагерей — пленных без конца тасуют и перебрасывают с места на место — и под конец попал в столь благоприятные условия, что смог снова начать писать. Кроме того, в узелке лежали накопленные мною порции мыла — тонюсенькие кусочки, выдаваемые нам для мытья и стирки. Я рассчитывал прожить на эти обмылки, пока не удастся пристроить рукописи.
Первый мой путь с вокзала вел к Цепному мосту. Я не успел еще повидать мать, но увидеть мост мне не терпелось. Прощание с городом — четыре весны и пять ледоходов тому назад — было связано именно с этим мостом. Это было последней картиной, и когда в памяти моей возникал Будапешт — сто или тысячу раз на дню, — я всегда видел перед собой Цепной мост таким же, как тогда: в легкой дымке, пропитанной ароматом цветущих акаций, в гирляндах сияющих фонарей. И вот, я цел-невредим, а мост — в руинах. Так я возвратился домой.
С невероятным энтузиазмом я окунулся в работу. Казалось, наша многострадальная страна наконец-то вздохнет полной грудью и заживет вольной жизнью. Мною владела страстная жажда увидеть, во что же она превратится. Я неутомимо трудился, очень много писал — статьи, репортажи, рассказы…
Жизнь кипела, бурлила, годы коалиции были полны надежд. Появился в печати сборник написанных мною в плену социографических очерков «Люди лагерей», и на его долю выпал большой успех.
От кошмаров какое-то время норовишь отмахнуться, как от страшных снов. Когда начались аресты и первые политические процессы, мы пытались найти им объяснение — вплоть до абсурдного, типа «безвинных людей просто так, ни за что ни про что ведь не сажают». Поначалу удавалось убаюкивать себя. Затем Тибор Дери, приглашенный на процесс Райка в качестве корреспондента, возвратился домой потрясенный. Там все неправда, от слова до слова, сказал он, Райк произносит заученный текст. К тому времени мы и сами догадались, что процессы разыгрываются по заранее написанным сценариям. Было ясно, что на наших глазах происходит чудовищная трагедия…
Начиная с этой поры, то есть после политических процессов, я, как и многие другие, пребывал в состоянии, близком к шизофрении. Теперь, задним числом, трудно вообразить, чтобы человек находился одновременно на стороне правительства и в оппозиции, но я несколько лет прожил на грани именно такого раздвоения личности. Конечно, это сказалось и на выходящих из-под моего пера сочинениях.
В ту пору мне приходилось сталкиваться сплошь с одними вопросами. Что же это ты такое написал, как, по-твоему, на это прореагируют наши враги? Куда же это тебя опять занесло? Забыл, что такое революционная романтика? Поможет ли твоя писанина выполнению пятилетки? Ослеп ты, что ли, раз не видишь зарождающихся ростков нового? Уж не замахнулся ли ты на критику партии? Пытаешься выбить оружие из рук пролетариата? Неужели ты не понимаешь, что наша задача — создать тяжелую индустрию, чтобы защитить свою родину, и тут уже жертвы неизбежны, ведь известно тебе, что Советский Союз в свое время тоже многим и многим жертвовал? Поначалу подобные вопросы ставили на полях моей рукописи другие люди. Я же, считая правомерным каждый из этих вопросов, поскольку искренне верил, что лишь таким способом и такой ценой можно построить в Венгрии социализм, впоследствии уже не ждал чужих замечаний. Пробудив в душе собственного цензора, я наделил его чрезвычайными полномочиями; теперь я сам ставил себе вопросы — после каждой страницы, после каждой фразы и перед каждой мыслью. Чувство юмора окончательно покинуло меня, я стал закисать как квашеная капуста. Мой художественный стиль поблек, потускнел; еще немного, и мои писания стали бы такими же занудно-правильными, как телефонная книга.