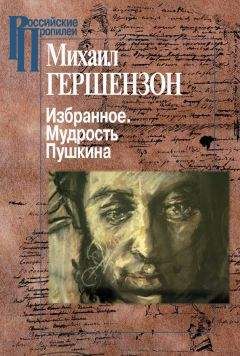Не буду говорить о философской глубине Пушкинской поэзии, куда проникнуть может только пристальный взор, о чрезвычайной замкнутости его произведений, с виду столь открытых и ясных, отчего многие из них, как это ни странно сказать, до сих пор остаются для нас запечатленными. Но даже в простом чтении – какую богатую жатву могла бы давать медлительность, и какие чудесные подробности ускользают от торопливого взгляда!
Вы не заметите в беглом чтении, как Татьяна ждет ответа на свое письмо.
Но день протек, и нет ответа.
Другой настал: все нет как нет.
Бледна как тень, с утра одета,
Татьяна ждет: когда ж ответ?
Это очаровательное, так легко сказанное «с утра одета» говорит многое. Оно говорит, прежде всего, что Татьяна с уверенностью ждала – не ответного письма от Онегина, а самого Онегина (в чем тонкое женское чутье ее и не обмануло). И оно показывает ее нам в эти дни с утра причесанной, затянутой, одетой не по домашнему, – а тем самым косвенно обрисовывает и ее обычный затрапезный вид, когда она вовсе не была «с утра одета», а может быть, до обеда нечесанная, в утренней кофте и туфлях упивалась романом. Так много содержания в трех легких словах!
Карл и Мазепа после Полтавского поражения бегут на юг. Они скачут через украинские степи. И вот близ дороги хутор: то хутор Кочубея. Мазепа с содроганием видит
запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертую дверь.
Невозможно полнее изобразить внезапное обезлюдение усадьбы, откуда все обитатели в паническом ужасе бежали сразу, бросив ее на произвол судьбы; неужели это сделал поэт одной чертой: отпертой в поле дверью. Даже такая мелочь стоит минутной остановки: дворовые девушки, собирая ягоды, поют (в «Онегине»):
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.
Эти три ягоды перечислены не случайно: они действительно поспевают в средней России одновременно, – их-то верно девушки и собирают теперь, отчего их и называют. И с тем вместе именование этих ягод определяет дату свидания Онегина с Татьяной: в средней России эти ягоды поспевают в конце июля – начале августа.
В беглом чтении еще легче ускользнет от внимания одно много говорящее слово, какие так часто встречаются у Пушкина. В те самые дни ожидания, увидев, наконец, из окна Онегина, въезжавшего во двор, конечно к крыльцу, Татьяна прыг в другие сени, то есть в черные сени, оттуда через задний двор – в сад, расположенный, как обыкновенно, позади дома.
В «Арионе» сказано:
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
то есть его спасение от кораблекрушения поставлено в связь с его особенной, «таинственной» природой; все бывшие в челне погибли, спасается лишь он один, а спасается не случайно: он спасен, потому что он певец. Такова действительно была мысль Пушкина, и словом «таинственный» он на нее намекает; много раньше, в стихотворении «Дельвигу», он выразил ее прямо:
Наперснику богов (т. е. поэту) не страшны бури злые:
Над ним их промысел высокий и святой.
В «Цыганах» Алеко, выслушав рассказ старого цыгана о его Мариуле, бежавшей от него с чужим табором, в ярости восклицает:
Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной,
И хищнику, и ей, коварной,
Кинжала в сердце не вонзил?
Он весь сказывается в этом одном слове: «неблагодарной». Женщина должна быть благодарна мужчине за любовь и мужчина вправе наказать ее, если она разлюбит. Так присущее ему и до тех пор скрытое рабовладельческое понимание любви этим словом вспыхивает наружу; огромная часть характера обрисована одним нечаянно вырвавшимся словом. Разве не наслаждение заметить и понять его, – и разве возможно заметить его при велосипедном пробеге чрез «Цыган»?
Или из красот другого порядка, – разве не жаль иной стилистической тонкости, бесследно тонущей в невнимании читателя? Вторая строфа стихотворения «Поэт» начинается так:
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется.
Едва ли и один из тысячи читавших «Поэта» понял, что значат эти два стиха. А они только продолжают тот образ, которым за шесть строк перед тем начинается стихотворение:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон…
«Божественный глагол» и есть зов Аполлона, требующий поэта к «жертвоприношению»… В стихотворении «Полководец» заключительные строки: «О люди! жалкий род, достойный слез и смеха» вовсе не составляют нравоучительного привеска к описательной пьесе, как думают все. Пушкин так описывает портрет Барклая де Толли, внушивший ему его стихотворение:
(и т. д.)
…Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье, —
Но Доу дал ему такое выраженье[26].
Вот эту мысль Доу, мысль, заложенную в самом портрете, Пушкин только раскрывает в своем стихотворении, отсюда до самого конца; он только объясняет «презрительную думу» Барклая, выраженную в его лице художником; то сам портрет говорит, то говорит портретом Доу, а не Пушкин: «О люди! жалкий род», и т. д. И все стихотворение, так понятое, получает вид такой цельности, такого внутреннего единства, такой скромности, которые разглядеть – большая радость. Что Доу сказал портретом, то Пушкин передает нам словами; от себя он привносит только свое согласие с художником, и потому в заключительных строках:
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиленье —
он говорит не о себе («поэта»): он разумеет Доу и себя вместе, и вообще всякую поэтическую душу.
И то новое, о чем я дальше хочу рассказать, узнал я путем медленного чтения, вглядываясь в стих, часто даже в отдельное слово. В Пушкине есть места, «куда еще не ступала нога человеческая», места трудно доступные и неведомые. Виною в том не его темнота, а всеобщий навык читать «по верхам», поверхностно. Но кто отважится пойти пешком, тот проникнет всюду и во всяком случае увидит много любопытного.
Если бы иностранец спросил нас, оригинальна ли поэзия Пушкина, мы с полным правом могли бы ответить ему утвердительно. Между тем оригинальность в поэзии – понятие условное и неопределенное. Величайший из поэтов, Шекспир, большею частью заимствовал сюжеты своих драм, «Фауст» Гёте основан на старой легенде. И у Пушкина найдется, вероятно, не мало заимствований. Все знают историю «Пира во время чумы» и «Анджело»; возможно, как теперь пытаются доказать, что он кое-что заимствовал у Кольриджа, что в «Пиковой даме» есть черты, взятые у Гофмана, и т. п. Тот же иностранец, приступив к ознакомлению с русской литературой Пушкинской эпохи, очень скоро напал бы на явный плагиат у Пушкина; он с торжеством открыл бы перед нами и предложил прочитать следующую страницу из статьи Батюшкова «Прогулка в Академию Художеств»: