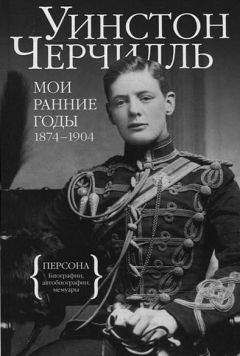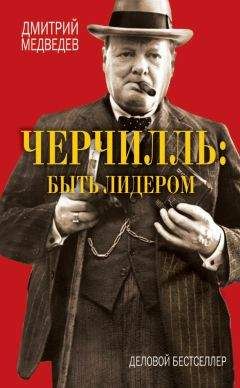Кубинская кампании стала одной из первых тем, с которой Черчилль выступил в роли публичной фигуры, пишущей статьи и дающей интервью. И здесь ему также предстояло усвоить урок. Его оценки были слишком быстры и слишком предвзяты. Со временем взгляд Черчилля на кубинский конфликт изменится. В 1897 году он признается матери, что был «немного неискренен» в своих предыдущих высказываниях, а также «возможно, несправедлив» по отношению к кубинцам. Черчилль попытается восстановить справедливость, процитировав слова Полония из «Гамлета»142:
Но главное: будь верен сам себе;
Тогда, как вслед за днем бывает ночь,
Ты не изменишь и другим[35].
Прочесывая территорию с генералом Вальдесом, Уинстон не мог не заметить, что характер военных действий разительно отличается от того, чему его учили в Сандхёрсте. Несмотря на свое превосходство в вооружении и людях, испанцы не могли одержать победу. Они столкнулись с тем же, что сами с успехом продемонстрировали против наполеоновских войск в 1807–1814 годах, – с партизанской войной. Для поддержания только видимости порядка им приходилось держать на Кубе полмиллиона солдат. Черчилль сравнит такое обременение для экономики Испании с «гирей на вытянутой руке»143. Держать ее можно, но весьма непродолжительное время.
Уинстон будет придерживаться мнения, что победа останется за кубинцами, однако это не принесет им счастья: «Хотя испанская администрация плоха, кубинское правительство будет еще хуже: такое же коррумпированное, более капризное и менее стабильное». Черчилль предсказывал, что при таком режиме «революции будут периодическими, частная собственность окажется беззащитной, а о справедливости придется забыть»144.
Для себя же будущий политик сделает вывод: когда события развиваются стремительно, а незнание многих фактов или нюансов не позволяет составить объектовую картину, нужно быть более внимательным в декламации своей точки зрения. Именно по этой причине он никогда не будет вести дневники, считая, что не следует выносить на суд истории поспешные суждения или «ночные размышления»145. Именно по этой причине он выступит категорически против поездки собственного сына Рандольфа в Испанию в 1936 году для освещения начавшейся на Пиренейском полуострове Гражданской войны146.
В отношении самих статей для Daily Graphic, они были встречены благожелательно. Главный редактор газеты Томас Хит Джойс (1850–1925) отметил, что материалы Черчилля «чрезвычайно интересные», они «как раз то, что нам нужно»147. Хорошую оценку статьям Черчилля дал влиятельный министр по делам колоний Джозеф Чемберлен, назвав их «лучшими краткими отчетами» кубинской кампании. Также он отметил, что пришел к аналогичным, что и у молодого человека, выводам после изучения данных из США и Испании. «Очевидно, что мистер Уинстон держит свои глаза открытыми», – порадует Чемберлен леди Рандольф148.
Популярность была не единственным приятным моментом первых публикаций. За пять статей Черчилль получил двадцать пять гиней. Учитывая будущие гонорары политика, можно утверждать, что сумма была незначительной[36], однако она давала пусть и небольшую, но финансовую независимость. И что самое главное, указывала молодому и вечно нуждающемуся в деньгах офицеру путь вначале к дополнительному, а затем и к основному заработку.
Бóльшую часть гонорара Черчилль потратил на покупку нескольких книг на аукционе Сотбис, включая редкое издание нравоучительных басен английского поэта и драматурга Джона Гея (1685–1732)149. Большим коллекционером Черчилль не станет, зато большим библиофилом – в полной мере. На следующий год он пополнит свою библиотеку «Историей» Геродота, переведенной Джорджем Роулинсоном (1812–1902) совместно с братом, сэром Генри Роулинсоном (1810–1895), и сэром Джоном Гардинером Уилкинсоном (1797–1875); биографией выдающегося государственного деятеля Роберта Уолпола (1676–1745), написанной в 1889 году Джоном Морли (1838–1923); автобиографией кардинала Джона Ньюмана Apologia Pro Vita Sua150.
После возвращения с Кубы в начале 1896 года в жизни Черчилля начался самый необычный период, о котором он впоследствии скажет, что «такого упоительного веселья» ему «еще не выпадало»151. Единственными его обязанностями полкового офицера было ежедневное посвящение двух с половиной часов верховой езде: час провести в стойле с лошадьми и полтора часа потратить на строевую подготовку. Остальное время, предоставлялось в его полное распоряжение152.
Вместе с другими однополчанами Черчилль ожидал отправки 4-го гусарского полка в Индию, которая была намечена на осень 1896 года. В запасе у гусаров было больше полугода свободного времени, которым они могли распоряжаться по своему усмотрению. Большинство посвящали себя светской жизни. Для Черчилля последняя была в новинку. Хотя он и происходил из видного аристократического рода, на протяжении всех чуть больше двадцати лет его жизни у него было мало возможностей для глубокого погружения в блеск и сияние высшего света. Теперь такая возможность появилась.
В свое время Шарль Морис де Талейран-Перигор (1754–1838) сказал, что «тот, кто не жил до 1789 года, не знает всей сладости жизни»153. Аналогичную мысль мог бы повторить и Черчилль, правда для другой страны и другой эпохи. «В те дни английское общество еще жило по старинке, – напишет он, когда за окном уже властвовало иное время с иными правилами. – Это было яркое и могущественное племя. В значительной степени все знали друг друга – и друг про друга тоже. Около ста великих фамилий, правящих Англией на протяжении многих веков, были связаны тесным родством через браки. Всюду встретишь либо друга, либо родственника»154.
Родственников у Черчилля было немного, а друзей еще меньше, но у него была знаменитая фамилия. Его с удовольствием встречали в зеркальных залах и чопорных салонах. Не обходилось, конечно, без курьезов, которые Черчилль сам себе создавал. Однажды его пригласили на воскресный обед, устраиваемый в честь будущего наследника престола принца Уэльского. Гостей было немного, и попасть на такое мероприятие само по себе было уже большой честью. Уинстон это прекрасно понимал, но не изменил своим привычкам. Выбрав не тот поезд, он опоздал почти на двадцать минут. Возможно, подобная наглость сошла бы ему с рук, если бы в ожидавшей его компании не оказалось тринадцать человек. В королевской семье считается плохой приметой садиться за стол чертовой дюжиной[37], а накрывать два стола принц Уэльский запретил. Ничего не оставалось, как дожидаться опаздывающего «молокососа». «Разве в полку вас не учили пунктуальности, Уинстон?» – сурово отчитал Уинстона будущий король, одновременно бросив уничижающий взгляд на бедного полковника Брабазона, также оказавшегося среди приглашенных. Черчилль промолчит, признавшись впоследствии, что «считает непунктуальность – отвратительной чертой», а также, что всю жизнь он эту черту старался преодолеть, правда, безуспешно156.
В большинстве же случаев Черчилль с успехом овладевал премудростями светского общения. Он встречался с крупнейшими политиками и будущими главами правительства – Артуром Джеймсом Бальфуром и Гербертом Генри Асквитом (1852–1928). Он общался с крупнейшими бизнесменами и финансистами, включая Натана Ротшильда, которого нашел «очень интересным и владеющим информацией». Его не слишком волновали представительницы противоположного пола, «страшные и глупые», в отличие от бесед с властями предержащими. «Я очень высоко оцениваю встречи с этими умными людьми, – скажет он леди Рандольф. – Диалоги с ними значат для меня очень много»157.
Уже в те годы Черчилль понял, что секрет успеха заключается в личных связях, которые должны служить «не диваном, а трамплином», способствовать не наслаждению и не почиванию на лаврах, а являться ободряющим импульсом, придающим энергию для новых свершений, достижения новых целей, выхода на новые рубежи. Впоследствии крепкие и многочисленные связи станут одной из отличительных черт британского политика, а также немаловажной особенностью его модели управления158.
А пока перед Черчиллем маячила перспектива отправки в Индию, к которой он относился без особого энтузиазма. Накануне своего отъезда он пожалуется матери, что будущее представляется ему «крайне непривлекательным», а свое путешествие на другой континент он считает «бесполезной и невыгодной ссылкой»159.
На самом деле причина столь мрачных мыслей заключалась даже не в том, что впереди субалтерна ждал девятилетний период службы в нескольких тысячах километров от насыщенного событиями Лондона. Дело было в том, что Черчилль стал все явственнее осознавать: армия, которую он любил и всегда будет любить, была не его призванием. Ему хватило всего нескольких месяцев службы в полку, чтобы понять этот печальный факт. Еще в августе 1895 года он скажет леди Рандольф: «Чем больше я наблюдаю за службой в армии, тем больше она мне нравится, вместе с тем все больше я убеждаюсь, что это не моя métier[38]»160.