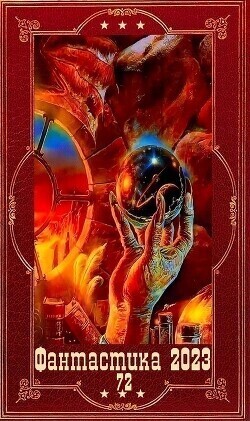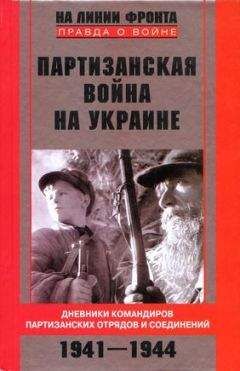кусок хозяйственного мыла. Она была довольна, провожала нас до калитки и все твердила: «Храни вас Господь и Пресвятая Мать Богородица».
Через шесть часов мы были уже в Няндоме. Продрогли страшно. День, как и вчера, был солнечный, тихий и морозный. По дороге мы обгоняли остатки нашей колонны, и кое-кто подсел к нам в кузов.
«30 января 1943 года, – записал я в тот день вечером, – первый день нашей самостоятельной жизни. Ощущение необычное и странное. На вокзале в Няндоме какой-то солдат, шедший мимо, вытаращил глаза, вытянулся и взметнул ладонь к шапке. „Что это он так?“ – удивился я и даже оглянулся. Оказывается, это он перед нами, а мы ему даже не ответили. Нужно быть внимательнее».
Остаток дня шатались по городу. Зашли на рынок, потолкались по барахолке. Здесь всё только меняют и деньги не жалуют. Комендантский патруль прошел мимо – не остановил, не потребовал увольнительной. Всюду свободный проход.
– Где жить-то будем? – спросил я у Гришина. – Надо куда-то приткнуться. Да и о жратве подумать не мешает!
– Знаешь что, – доверительно прошептал Гришин, – попробуем толкнуться в «Райпотребсоюз». Чем черт не шутит, а?
Председатель «Райпотребсоюза», мужеподобная женщина, отнеслась к нам сочувственно и устроила обед в литерную столовую по «первому талону», то есть в отделение для ответственных работников.
– Порядок! – Саша Гришин от удовольствия потирал ладони. – Остается проблема с жильем. Шататься по квартирам – удовольствие не из приятных. Попробуем толкнуться в гостиницу.
– Что ж, попробуем, – согласился я.
Гостиница в Няндоме одна, двухэтажная, рубленная из добротного сосняка, окна большие, номера просторные, теплые, отопление печное. Нас разместили в компании двух лейтенантов-летчиков, добродушных и приветливых ребят. Вдоль стен четыре металлические кровати с пружинными сетками, ватными матрацами и теплыми шерстяными одеялами, чистым бельем и перовыми подушками.
– Это тебе не казарменная койка. – Гришин довольно подмигнул мне и стал пробовать упругость одной из кроватей.
– Что, из училища, что ли? – поинтересовались летчики.
– Угу, – промычал Гришин, – из училища.
– Ясно, – сказал один из летчиков, засмеялся и, встав со стула, оправил складки своей ладной коверкотовой гимнастерки.
– Пойдем посмотрим, чем тут кормят по «первому талону»? – сказал Саша Гришин.
По «первому талону» в райпотребсоюзовской столовой давали на обед щи и пшенную кашу со свининой, хлеб люди приносили свой. Пришлось и нам предварительно зайти на рынок – за четыреста грамм чернушки отдали семьдесят грамм сахара. Столы в столовой покрыты белыми скатертями, едят, пользуясь ножом и вилкой.
Тем, кто не сидел за пропитанным жиром столом на шестнадцать человек в солдатском пищеблоке, кто не делил супа и каши из общего бачка, кто не слышал команды «Встать, выходи строиться!», тому не понять нас и те ощущения, которые мы испытывали от минимального комфорта в этой провинциальной, не первого разряда, столовой.
Вернувшись к вечеру в гостиницу, мы узнали, что там обосновались еще несколько человек из наших.
– Где-то приткнулся наш Артюх? – сказал я. – Он вскочил в машину один из первых.
– И надо полагать, – добавил Гришин, – не отдал за проезд ни рубля, ни грамма хлеба.
– А что вы хотите, – вмешался в разговор подошедший Спирин, – Артюх одессит, и насчет «менять-продавать» ему нет равных.
В номере топилась печь. Летчики, очевидно, где-то гуляли. Пора и спать. Ложусь в чистую и мягкую постель, матрац приятно пружинит. Закинув руки за голову, я гляжу в потолок. «Неужели же, – пронеслось в мозгу, – трубач не прогорнит „зорю“ или „тревогу“. Неужели не завопят истошным голосом: „Подъем!“ Не сон ли это?» – думал я, засыпая.
31 января. Проснулся около восьми. Разогрел кашу, неспешно позавтракал и напился чаю.
– Наши соберутся не раньше пяти. – Гришин посмотрел на часы и продолжал: – Что думаешь делать?
– Займусь письмами, – ответил я. – Неизвестно, где завтра будем.
– Валяй, а я узнаю насчет обмундирования.
Гришин ушел. Написав несколько писем, я пометил их одним словом: «Няндома». Пусть сами догадываются. Интересно, какое нам дадут обмундирование? Шерстяное или диагоналевое?
– Обмундирования нет и не будет, – сообщает вернувшийся Гришин. На складах имеется лишь только милицейское, хлопчатобумажное, синего цвета. От него сама милиция отказалась. Оно все мятое и прелое.
– А что же делать? – спросил я растерянно.
– Брать то, которое есть, – отвечал Гришин, – другого не будет.
Получив гимнастерку и брюки темно-серо-синего цвета, мы одолжили в гостинице утюг и стали приводить их в приличный вид. В комнате запах прелью и сыростью, как в старом подвале, из-под раскаленного утюга шел вонючий и затхлый пар.
– Не тужи, Андрей, – смеется Гришин, – оно хоть и прелое, да новое.
Кроме того, выдали белье, кирзовую полевую сумку, документы и деньги. Резервным офицерам положено законом 550 рублей денежного довольствия в месяц. По окончании училища выдается оклад и 200 % подъемных. Итого: 1650 рублей. Своих денег у меня 600. Следовательно, я располагаю суммой в 2250 рублей. 2000 я оставляю себе, а 250 отсылаю матери.
– Сегодня воскресенье, – говорит Саша Гришин, – должен быть большой рынок. Пойдем побродим.
За 80 рублей купил буханку круглого украинского хлеба.
4 февраля. «Вот уже пятый день живем мы в няндомской гостинице, – пишу я матери, – платим по 5 рублей в сутки. Директор – женщина симпатичная и простая в обращении. Ей лет тридцать пять, и она сама по утрам ставит для нас самовар. Вечера проходят в болтовне с соседями по номеру – приветливыми и добродушными летчиками. Они здесь по приему каких-то грузов, идущих эшелонами из Архангельска. Сегодня у одного из них, старшего лейтенанта, я сторговал за 850 рублей ручные часы Первого часового завода. Он их получил в день окончания летного училища».
– Ладно, – сказал старший лейтенант летчик, снимая часы с руки, – тебе они на передовой понадобятся. А я себе достану.
Несколько раз ходили в кино. Картины идут старые, всем известные: «Свинарка и пастух», «Волшебное зерно», «Фронтовая хроника». Ленты некачественные и часто рвутся. Изредка обедаем в литерной столовой «Райпотребсоюза». Кто-то растрепал, что я художник, и сама директор няндомского ресторана явилась с просьбой «срисовать с нее карточку». То есть сделать увеличенную копию с фотографии, подкрашенную акварелью. Просьбу я выполнил, и мы с Гришиным оставшиеся дни получали приличный обед с хлебом и пивом, а по утрам кофе с молоком – продукт редкий и дефицитный.
5 февраля. Наконец-то из Архангельска прибыл долгожданный эшелон: обычные, двухосные, товарные теплушки, рассчитанные на «сорок человек или восемь лошадей». Нас разместили с комфортом – по тридцать на вагон. Теперь наш путь на фронт, на передовую. И вспомнились мне слова старого полковника, командира батальона Каспийского пехотного полка, участника Брусиловского прорыва и отца моего товарища: «Человек порой