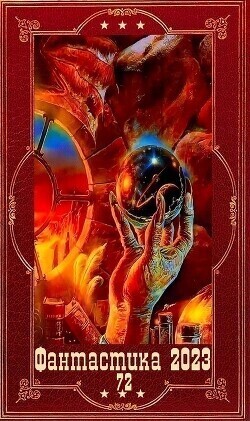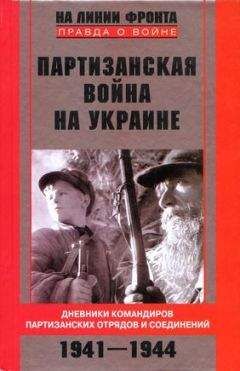там – холодными вспышками никеля сверкают его инструменты.
8 часов 30 минут. Серые ряды шинелей выпускной роты пятого минометно-артиллерийского дивизиона замерли в молчаливом ожидании. Тишина. Лишь изредка слышится поскрип снега под сапогами. От здания штаба, в торжественном молчании, двигается группа командного и преподавательского состава училища во главе с подполковником Самойловым. Тут же и капитан Краснобаев, и старик Матевосян, и преподаватели: Пулкас, Лавров, Воронов. Пришли проводить нас и командиры наших учебных подразделений: Тимощенко, Кузнецов, Козлов, Нецветаев, Стрекопытов, Стецунов, Слюсарь. Синенко, он теперь старший лейтенант, и политрук Гераськин едут с нами в качестве сопровождающих – они стоят на правом фланге первой шеренги.
Оркестр взрывает морозную тишину мерно-торжественными звуками встречного марша. Самойлов подходит на положенное расстояние и останавливается. К горлу подступает комок, слезы слепят глаза. Смолк оркестр. И вдруг, быть может впервые, звучит команда:
– Товарищи офицеры! Под знамя смир-р-рна-а!
Отбивая строевым, эскорт выносит знамя. Оно плывет вдоль наших рядов. В центре знамя герб страны, по верху: «ВЕЛИКОУСТЮГСКОЕ ВОЕННОЕ», а по низу – «ПЕХОТНОЕ УЧИЛИЩЕ». Оркестр обрывает марш, и знамя замирает на месте – в голове колонны, на правом фланге. Раздается команда:
– Слушать приказ командующего Архангельским военным округом за номером 060. – И далее: присвоить воинское звание «лейтенант». Идет длинный перечень фамилий по алфавиту, и вот ухо улавливает: Николаеву Андрею Владимировичу, одна тысяча девятьсот двадцать второго года рождения. Приказ зачитан.
Комиссар Матевосян что-то выкрикивает своим резким, гортанным голосом. Понять трудно. Воспринимаются не слова, а эмоции. Он что-то говорит об исключительности нашего выпуска. О том, что такого набора, как наш, военное училище никогда не видало и вряд ли когда увидит. Он желает нам боевой славы, удачной службы и счастливой победы.
– Я надеюсь, – взмахнув в воздухе кулаком, выкрикивает напоследок комиссар, – что если и не все из вас станут генералами, то уж до полковника должны дойти многие.
Шеренги взревели «ура», в руках приветственно замелькали шапки. То была славная, теплая минута всех охватившего задушевного восторга. Волнение улеглось, и послышалась команда:
– К торжественному маршу!
В последний раз, отбивая шаг, проходит бывший учебный минометно-артиллерийский дивизион перед начальником училища, перед своими командирами и преподавателями. Впереди строя, приложив ладонь правой руки к ушанке, припадая на раненую ногу, идет бывший наш взводный – старший лейтенант Синенко. Скоро, очень скоро мы расстанемся с ним. Он едет в распоряжение резерва НКО через Москву, и я дал ему свой московский адрес, попросив зайти навестить мою мать.
Под звуки марша «Прощание славянки» мы идем через весь город. На тротуарах стоят люди – в большинстве это женщины, многие плачут, утирая глаза платком. Оркестр сопровождает нас до выхода на Няндомский тракт. Предстоит обратный путь от Каргополя до Няндомы – восемьдесят шесть километров. Вот и мост через Онегу – тогдашняя городская застава. В морозном воздухе запела труба, и душу наполнили звуки старинного сигнала русской армии, сигнала, памятного мне с детства: «Слушать всем! Последний поход!» Смолкла труба, рассыпался строй! Все поздравляют друг друга, смеются, кучками бредут по накатанной снежной дороге. Она теперь ровная, гладкая, утрамбованная машинами. Оркестранты машут нам своими инструментами, и яркие всполохи солнца сверкают радостной иллюминацией на их трубах.
– Вот вы и вольные казаки, – говорит, улыбаясь, Синенко, – до Няндомы добираемось як хто сможеть: пешком ли, на машинах. Устреча в Няндоме на вокзале, ежедневно, у семнадцать ноль-ноль!
Длинной вереницей растянулась наша колонна по обочине шоссе. Многие сразу же вскочили на попутные машины, и первым среди них был вездесущий Артюх.
Прощай, Каргополь! Прощай, пехотное училище! Ты перевоспитывало, перековывало избалованных, изнеженных московских мальчишек в сознательных и волевых офицеров. Первоначально нас было более 600, а к выпуску дошло лишь 120.
Недолго просуществовало оно после нашего выпуска – его расформировали за ненадобностью приказом от 29 июля 1945 года.
29 января. Вот мы и офицеры. Оправив лямки вещевого мешка, я бросаю последний и прощальный взгляд на Каргополь и иду по дороге твердым и уверенным шагом.
– Ну и куда ты так спешишь, – услышал я вдруг, словно посторонний, свой же собственный внутренний голос.
– Куда? – как бы переспросил я сам себя и неуверенно ответил: – Очевидно, я спешу в Неведомое Будущее.
– А что там, ты знаешь? – как бы кто-то со стороны задает мне этот провокационный вопрос. – Ведь идешь-то ты не куда-нибудь, а на фронт! А знаешь ли ты, что такое фронт?!
Что там, на фронте, я не знал даже отдаленно. Я шел и смотрел на рябившую искорками в глазах, на накатанную и ровную снежную дорогу. Рядом со мною идет сутуловатый Саша Гришин.
– Спешить, пожалуй, не надо, – обращается он ко мне, – давай-ка зайдем куда-нибудь чайку напиться. Обмозговать ситуацию, переварить события.
Я соглашаюсь. Пройдя километров пять, мы постучались в крайний дом небольшой деревеньки Гусево. Отдохнули, напились чаю, позавтракали, прикрепили кубики на петлицы, поблагодарили хозяев и пошли дальше. Километров еще через четырнадцать, за изгибом Няндомского тракта, у погоста Малая Шалга, решили заночевать. Утро вечера мудренее.
Хозяйка дома, пожилая русская женщина, каких обычно зовут «старушками», гостеприимная и жалостная ко всякому путнику, вскипятила самовар, выставила топленого молока, квашеной капусты, картошку в чугунке, соленых грибов. О боже! Какой же благодатной и райской показалась нам эта незатейливая еда – еда простого русского человека. Заварили чай. Стол стоит у окна, а там – за окном, в лучах заходящего солнца, сверкает гладью Няндомский тракт. Глядя в небольшое, подернутое изморозью оконце, мы наблюдаем, как мимо нас идут остатки нашей колонны. Никто больше не осел в этой маленькой деревеньке.
Дом небольшой, но очень теплый. За ужином беседуем с хозяйкой. И никогда, наверное, не забыть мне этой беседы при свете сухой лучины.
Подумать только, в середине XX века и горящая лучина в средневековом кованом поставце. Да и чем могла эта женщина освещать свою избу вдали от электролинии, без керосина и свечей? Спать легли на полатях под тулупами. Шуршали тараканы, пахло русской деревней – запахом неповторимым, родным и приятным.
Поутру, встав на заре, хозяйка сварила нам каши на завтрак и в дорогу. Не спеша, поев каши с молоком, налившись чаю, стали караулить попутную машину. Наши ушли вперед, и конкурентов, по-видимому, не предвиделось. Две грузовые полуторки прошли мимо, третья затормозила. Договорились быстро: стакан махорки и четыре армейских сухаря. Нам повезло. Говорили, что такса здесь пять килограммов хлеба. Сухари я сэкономил заранее, лежа в госпитале. Махорка была Сашина. Старушке, приютившей нас, дали двадцать пять рублей и