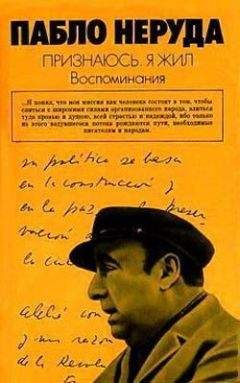Гордыня забушевала в Диего. Никем из современников он так не восторгался, как этим уверенным мастером, ни одному так не завидовал втайне — завидовал тем острее, что ревниво чувствовал в нем немало родственного: испанские корни, уроки Эль Греко, влечение к примитивам древних культур… Но насколько же смелее, независимее самоосуществлялся Пикассо! Будучи лишь пятью годами старше Диего, он успел уже занять одно из первых мест в европейской живописи, заставил публику считаться с собой. Всего удивительней было бесстрашие, с каким Пикассо отбрасывал собственные, приносившие ему успех решения, каждого из которых другому художнику хватило бы на всю жизнь, и снова пускался в неизвестность, сбивая с толку подражателей, и вновь выходил победителем… И перед этим-то счастливцем предстать в роли смиренного ученика?!
Однако новые приятели не унимались: кубизм переживал застой и нуждался в притоке свежих сил — нужно было понадежнее закрепить переход талантливого мексиканца на их сторону. Мартовским утром 1914 года в мастерскую Диего, которому в это время позировали два японских художника — Фудзита и Кавасима, ворвался темпераментный чилиец Ортис де Сарате и заорал с порога:
— Пикассо сказал, что, если ты сейчас же не придешь к нему, он явится к тебе сам!
— Ну и пусть является! — озлился Диего, но японцы, давно мечтавшие попасть к Пикассо, не захотели упустить такой случай. Фудзита без дальних слов нахлобучил хозяину на голову сомбреро, Кавасима сунул ему в руки резную палку, и, схватив Диего за локти, они, как были в цветастых халатах и деревянных сандалиях, потащили его по лестнице.
Коренастый подвижный Пикассо, живший поблизости, на улице Шельшер, встретил их как старых знакомых. Его черные блестящие волосы были острижены коротко, словно у циркового борца; взгляд круглых, антрацитово-черных глаз, казалось, пронизывал насквозь собеседника, сам оставаясь непроницаемым. Он обрадовался возмож-ности поговорить по-испански, и вскоре Диего совсем освоился бы, если б не беспокойное, почти физическое ощущение какой-то гипнотической энергии, излучаемой этим человеком. «Не поддаваться, не поддаваться», — приказывал он себе, стиснув зубы.
Но Пикассо и не собирался гипнотизировать гостя — а него это делали картины, множество картин и рисунков, которые он охотно извлекал из разных углов своей огромной, захламленной мастерской. Тут были полотна и листы всех периодов — «голубого», «розового», «негритянского», нынешнего кубистского, — художник показывал их вперемешку, не отдавая видимого предпочтения ни одному, к досаде Ортиса де Сарате, старавшегося сосредооточить внимание неофита на последних работах мастера.
Расхрабрившись, Диего сам пригласил Пикассо к себе, — и тут же они двинулись обратно всей компанией. Жадный интерес, с которым Пикассо принялся рассматривать его холсты, заразительно радуясь каждой удаче, окончательно покорил Диего. Не без злорадства отметил он, что картины, критиковавшиеся кубистами за экзотизм, понравились вождю кубизма едва ли не больше других. «Чувствуется по крайней мере, что ты потомок атцеков!» — одобрительно воскликнул Пикассо перед неоконченным портретом Фудзиты и Кавасимы. А когда раздосадованный чилиец, пытаясь вернуть мысль мэтра в надлежащее русло, процитировал его знаменитое высказывание: «Картина — это картина, точно так же, как гитара или игральная кость — это гитара или игральная кость, то есть самостоятельный предмет, а не имитация, не копия другого предмета», тот лишь неопределенно хмыкнул, толкнул Диего в бок и показал на неприбранный стол:
— Видишь стакан? Я хотел бы так написать этот стакан, чтобы у всякого, кто увидит, рука сама потянулась схватить его!
Нескончаемый этот день закончился опять на улице Шельшер, где хозяин подарил на прощанье новому другу фотографию одного из своих натюрмортов с надписью: «Диего Ривере — во всем согласный Пабло Пикассо». А на следующее же утро Пикассо вновь заявился к нему в мастерскую, ведя за собой приятелей: поэтов Макса Жакоба и Гийома Аполлинера, торговца картинами Амброза Воллара. Последний не сразу узнал Диего, а когда тот напомнил ему обстоятельства предыдущей встречи, засмеялся и, раскинув руки, вскричал:
— Но у меня и сейчас нет других Сезаннов!
— Зато у тебя есть отныне много Ривер! — живо отозвался Пикассо. — Не правда ли? Я же знаю, ты унесешь отсюда вот эту вещь… и вот эту… и эту…
И Воллар — куда только девалась его свирепость! — подчинился беспрекословно. За ним и другие владельцы картинных галерей начали навещать Диего. Мадемуазель Вайль, гордившаяся тем, что вывела в люди Пикассо, предложила устроить в своем крохотном магазине выставку работ Риверы и даже издала на собственные средства каталог, предпослав ему прочувствованное предисловие. Открывшаяся в конце апреля выставка привлекла внимание любителей, часть холстов была продана. Словом, пришел и к Диего настоящий успех.
А в нем нарастало смутное, гложущее недовольство. Проверяя себя, он оглядывался на пройденный за три года путь: все было правильно, все логично (может быть, слишком правильно, слишком логично?). Казалось бы, он наконец-то догнал авангард художников и подымался теперь вместе с ними к сверкающим вершинам познания, уже означавшимся впереди. Но ледяным холодом тянуло от этих стерильно чистых вершин. И с тоской вспоминались оставленные внизу равнины, где живут обыкновенные, неискушенные люди; приходили на память прежние времена, когда искусство не замыкалось в кругу своих задач и радовало всех, а не только посвященных.
Тщетно твердил он себе, что искусство в современном мире разделяет судьбу точных наук, которые тоже ведь вырвались за пределы доступного пониманию среднего человека. Тщетно повторял, что кубисты работают для грядущего, разрушая ложь привычных представлений и создавая эскиз нового миропорядка, который будет построен на основе человеческого разума и здравого смысла, — тоска не проходила. Нет, не в искусстве он сомневался — в себе. Уж не ошибся ли он в своем призвании? Если служение искусству начинает так его тяготить, то, быть может, он все-таки рожден не для этого, а для совсем иной, непосредственной жизни — там, на равнинах, среди людей? И не растратил ли он понапрасну лучшие годы, занимаясь живописью, вместе того чтобы действовать — сражаться и строить школы, как отец, командовать отрядом повстанцев, как дядя Панчо, без вести пропавший на Кубе?
Работая, он еще забывался, но стоило положить кисть — и вот, как сейчас, одолевали его неотступные мысли. От них не спасали ни шумные скандалы в художественных салонах, упрочившие за ним репутацию дикаря, ни застольные беседы с приятелями, падкими на его рассказы о Мексике, в которых уж и сам Диего не отличал правду от вымысла. Нет, томившую его жажду действия не утолить было придуманными приключениями, перестрелками, погонями! И в «Ротонде», где собирались такие же, как он, художники и поэты разных национальностей, инстинктивно тянувшиеся друг к другу, Диего видел вокруг себя скорее сумму одиночеств, чем то братство, которого ему не хватало, которого не могла заменить ему и самоотверженная любовь Ангелины. Нередко, досидев до закрытия «Ротонды», он, вместо того чтобы идти домой, потерянно слонялся по улицам, а под утро забредал в маленькое кафе у товарной станции Монпарнас и с завистью прислушивался к степенным разговорам грузчиков, закусывавших после ночной смены…