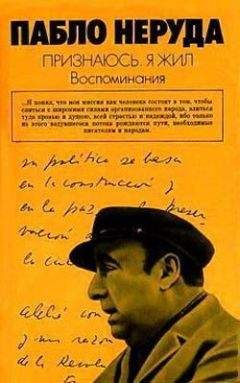Работая, он еще забывался, но стоило положить кисть — и вот, как сейчас, одолевали его неотступные мысли. От них не спасали ни шумные скандалы в художественных салонах, упрочившие за ним репутацию дикаря, ни застольные беседы с приятелями, падкими на его рассказы о Мексике, в которых уж и сам Диего не отличал правду от вымысла. Нет, томившую его жажду действия не утолить было придуманными приключениями, перестрелками, погонями! И в «Ротонде», где собирались такие же, как он, художники и поэты разных национальностей, инстинктивно тянувшиеся друг к другу, Диего видел вокруг себя скорее сумму одиночеств, чем то братство, которого ему не хватало, которого не могла заменить ему и самоотверженная любовь Ангелины. Нередко, досидев до закрытия «Ротонды», он, вместо того чтобы идти домой, потерянно слонялся по улицам, а под утро забредал в маленькое кафе у товарной станции Монпарнас и с завистью прислушивался к степенным разговорам грузчиков, закусывавших после ночной смены…
Тесней, чем с другими, сошелся Диего с компанией русских, в которую ввела его Ангелина. Это были во многом непохожие люди: поэт Илья Эренбург — сутулый, взлохмаченный, ироничный; Максимилиан Волошин, тоже поэт, — грузный, бородатый, в любви к мистификациям не уступавший Валье Инклану («А вы знаете, что я внебрачный сын вашего расстрелянного императора? — ска-ал он Диего, знакомясь. — Его имя дала мне матушка, фрейлина императрицы Карлотты, бежавшая из Мексики в Петербург»); белокурая художница Мария Стебельская, порывистая и взбалмошная. «Моревна — морская царевна», как прозвали ее друзья-соотечественники. Роднила их общая уверенность в том, что окружающий мир доживает последние дни, что с часу на час должен разразиться великий потоп, который смоет с лица земли прогнившее общество, основанное на лжи и насилии, и, быть может, расчистит место для новой, свободной жизни. Не один Диего разделял эти предчувствия, но мало кому в «Ротонде» они были так по сердцу.
И вот сбывается предсказание русских друзей. Грянула война, и ясно, что это лишь начало всемирной катастрофы. Так что же делать ему, Диего? Отсиживаться на Майорке, снова остаться наблюдателем, как тогда, в Мексике? Или в том-то и состоит настоящая мудрость, чтобы, не рассуждая, отдаться стихии, ринуться в бездну, только бы разорвать заколдованный круг и найти, наконец, свое место среди людей?
Хруст шагов по песку. Это Ангелина. Робко — Диего не терпит, когда его беспокоят во время работы, — она говорит, что пришла лишь напомнить: через час Потемкин и Карделль уезжают; если Диего хочет успеть проститься с ними…
«Проститься»… Ну конечно. А самим оставаться — Ангелина, как видно, уже решила все за него. Раздражение, накопившееся в нем, находит выход. Диего вскакивает:
— Мы тоже едем, — роняет он с деланной небрежностью. — Вернемся во Францию. Запишусь и я в добровольцы.
Ангелина бледнеет, прикусывает губу. Но жизнь с Диего научила ее, что в такие минуты лучше ему не противоречить.
— Хорошо, Диего, — еле слышно отвечает она, — как скажешь…
— Ну куда вам с таким плоскостопием, и больной печенью!.. Не-го-ден! — потягиваясь, заключил военный врач, и Диего, слегка пристыженный, вернулся к себе, на заметно обезлюдевший Монпарнас.
А через несколько месяцев он уже стыдился своего восторженного порыва. Тянулись военные будни: очереди за молоком и мясом, ночные налеты германских цеппелинов, патетические речи политиков, белые цензурные пятна в газетах… Друзья, приезжавшие на побывку из окопов, угрюмо рассказывали об ураганном огне артиллерии, о газовых атаках, о воровстве интендантов, о вшах, заедающих солдат. Но ни кровь, ни грязь, ни даже бессмысленная гибель десятков тысяч людей не возмущали Диего так, как возмущал, как разъярял его именно некий смысл — безошибочный дьявольский расчет, все очевиднее обнаруживавшийся в том, что сперва показалось ему разгулом слепых стихий. Хаос упорядочивался; война приобретала очертания гигантского механизированного хозяйства, этакого идеального предприятия, не подверженного кризисам сбыта. По обе стороны фронта миллионы людей непрерывно производили вооружение, боеприпасы, консервы, хлеб и доставляли все это туда, где армии воюющих стран совместно перемалывали доставленное, заодно истребляя друг друга и освобождая место для новых эшелонов, ожидающих на подъездных путях.
Большинство еще верило, что сражается за родину, цивилизацию, прогресс. Кое-кто продолжал надеяться, что капитализм не переживет катастрофы, которую сам развязал, что вырвавшиеся на волю силы уничтожения разрушат и ненавистное господство буржуазии. А тем временем господство это упрочивалось. Господин Буржуа всех перехитрил — крестьян и рабочих, ученых и поэтов. Заключив наивыгоднейшую торговую сделку со смертью, он одним махом поставил себе на службу патриотические чувства граждан и достижения современной науки, заткнул глотку недовольным и загребал теперь без помех баснословные сверхприбыли. Человечество истекало кровью ради того, чтобы господин Буржуа преспокойно жрал, пил и тискал девиц в тыловых кабаках, скупал драгоценности и дворцы, библиотеки и творения великих мастеров, а время от времени даже уделял толику доходов на поощрение новейшего, щекочущего ему нервы искусства.
Думая об этом, Диего готов был возненавидеть свою работу. Но только работа — исступленная, самозабвенная — спасала от черных мыслей, от отчаяния, да и попросту от голода: жить в Париже становилось все труднее. Ангелина изворачивалась как могла, хозяйничая в холодной мастерской, которая одновременно служила жильем и кухней. Неделями им приходилось пробавляться пустой похлебкой и лежалой зеленью.
Когда удавалось продать картину, покупали хороший кусок мяса, вино, сыр, звали друзей: Пикассо, итальянца Модильяни, русских — Эренбурга, Моревну, Волошина. Вместе со всеми уплетая жаркое, Диего ненадолго успокаивался, благодушно щурился, потешал компанию невероятными россказнями. И вдруг свирепел, взрывался: для чего живем? Для чего работаем? Чтобы ублажать торжествующих каннибалов, питаться объедками с их стола?! Тогда уж честнее выбросить кисти и наняться швейцаром в ближайший бордель!
Пикассо усмехался: не похоже было, что он мог разувериться в своем ремесле. Разрушительная сила его полотен все возрастала, а сам он, казалось, не изменился — сосредоточенный, целеустремленный, словно знающий какой-то секрет, неведомый остальным. Разговоров о назначении искусства он не любил: художник работает, потому что не может не работать — и баста! Если же художник хочет выбросить кисти, значит дело прежде всего в нем самом, значит он не находит средств выразить себя… Скажем, последние вещи Диего показывают, что ему стало тесно в рамках станковой живописи, его тянет к большим пространствам — так, может, пришла пора искать иных решений, в монументальном искусстве? Тогда нужно начать упражняться в рисовании по памяти, без этого в стенных росписях и шагу не сделаешь. И как только появится возможность, съездить в Италию, поучиться у стариков — верно, Моди?