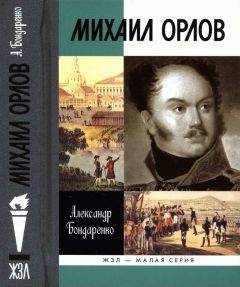Но остановить неприятеля не удалось ни на Можайском рубеже, ни перед Москвой… Военный совет, проведённый в деревне Фили 1 сентября 1812 года, принял решение о сдаче Москвы. Блистательный генерал Милорадович, начальствовавший арьергардом, сумел обеспечить беспрепятственный проход русских войск через древнюю столицу. Этому же военачальнику армия была обязана безупречным выполнением дерзкого тарутинского марш-манёвра, в результате чего французы потеряли уходящего противника…
И вот, в конце концов, 21 сентября главные силы русской армии вступили в большое село Тарутино. Здесь, на крутом берегу реки Нары, Кутузов сказал генералам и офицерам штаба: «Теперь ни шагу назад! Приготовиться к делу, пересмотреть оружие, помнить, что вся Европа и любезное Отечество наше на нас взирают!»
«Поелику Тарутинская наша позиция имела перед собою значительную реку Нару, хотя вовсе неширокую, но довольно глубокую, быструю и в крутых берегах, то князь Смоленский, зная невозможность скорого и быстрого неприятельского нападения, велел, чтобы полковые командиры строили в обапольных[112] селениях и на берегах р. Нары и оврагов бани для освежения солдат, зануженных в долговременном тысячевёрстном боевом отступе нашем от Немана, и обучали новоприведённых из депо необученных рекрут цельной стрельбе глиняными пулями в мишень…»{153} — вспоминает очевидец.
«Насыпаны редуты и батареи. Войска заняли укреплённый лагерь, можно было наконец не спеша и передохнуть. В лагере открылся настоящий рынок; маркитанты навезли все необходимые для жизни припасы…»{154} — пишет другой офицер.
Войска готовились к новым сражениям. На отдыхе солдаты выстроили добротные шалаши для офицеров и для себя, затем начали отрывать удобные и просторные землянки. Потом, по идее кого-то из любителей комфорта, в лагере стали появляться избы, материал для строительства которых заимствовался в селе, так что Тарутино исчезало на глазах, ибо то, что не годилось для строительства, попадало в костры… Лагерь постепенно превращался в настоящий город — сюда из Калуги начали приезжать сбитенщики, калачники и прочие торговцы, бойко продававшие свой товар по всей территории стоянки войск. Заметим, кстати, что наш торгаш своей выгоды никогда не упустит — цены были, что называется, «ломовые»: буханка белого хлеба, например, стоила два рубля ассигнациями. (Чтобы было понятно: в августе 1822 года, в столичном Петербурге, фунт первосортной говядины стоил 121/4 копейки!) Не каждый мог позволить себе такую роскошь! Зато на базаре, который возник прямо на большой дороге, постоянно собиралось до тысячи человек — там торговали сами солдаты, народ мастеровитый, среди которых кого только не было! На этом базаре возможно было за гроши приобрести любой потребный товар, сработанный умелыми солдатскими руками…
Лагерь был очень оживлён. По вечерам, до самой зари, повсюду слышалась нехитрая музыка, звенели песни — чаще всего радостные, победные. Чего ж не радоваться? Каждый солдат был теперь исправно одет и досыта накормлен; для пополнения убыли в полках из Калуги ежедневно приходило по пятьсот, тысяче, а то и по две тысячи рекрутов. Даже кавалерия — тот род войск, который у противника катастрофически уменьшался с каждым днём, — в русском лагере содержалась в образцовом порядке…
Тем временем во французской армии усиливался процесс деморализации.
По мнению захватчиков, в этом был виноват… дурной пример русских!
Вот, например, что рассказывал французский сержант Бургонь:
«В самый день нашего вступления [в Москву] император отдал маршалу Мортье распоряжение запретить разграбление города. Этот приказ был сообщён в каждом полку, но когда узнали, что сами русские поджигают город, то уже не было возможности более удерживать нашего солдата, всякий тащил, что ему требовалось, и даже то, чего ему вовсе не было нужно»{155}.
С французским сержантом вполне солидарен офицер итальянской королевской гвардии Цезарь Ложье:
«Солдаты исполняли до сих пор приказы начальства, они заняты были тушением пожара и спасением кусков сукна, драгоценностей, тканей, самых дорогих европейских и азиатских материй и товаров. Но теперь, заражённые примером грабящего на их глазах народа, они сами с увлечением начинают всё расхищать. Мучные, водочные и винные магазины разграбляются прежде всего. Да и что, говоря откровенно, делать, когда городу непрестанно грозит пожар? Разве солдат в нём виноват?»{156}
Вот так! Будем считать французов и их союзников жертвами обстоятельств.
Пожар Москвы, диверсии партизан, отсутствие продовольствия и должной подготовки к затянувшимся военным действиям — всё это пагубно влияло на настроение и, соответственно, поведение не только солдат и офицеров, но и высших чинов армии, и даже самого её полководца. В конце концов Наполеон решил более не играть в победителя, а направить к русским парламентёра.
Выбор императора пал на графа Коленкура, который, являясь откровенным противником похода в Россию, пребывал у Наполеона в немилости. По воспоминаниям генерала, император пригласил его к себе 2 или 3 октября — то есть 20 или 21 сентября, когда русская армия только ещё пришла в Тарутино, — и предложил:
«— Хотите ехать в Петербург?.. Вы повидаете императора Александра. Я передам через вас письмо, и вы заключите мир.
Я ответил, что эта миссия совершенно бесполезна, так как меня не примут. Тогда император с шутливым и благосклонным видом сказал мне, что я “сам не знаю, что говорю; император Александр постарается воспользоваться представившимся случаем вступить в переговоры с тем большей готовностью, что его дворянство, разорённое этой войной и пожаром Москвы, желает мира…”»{157}.
Все мы в общем-то верим в то, во что хотим верить, и это наше личное дело, но вот когда руководитель государства излишне увлекается собственными фантазиями — добра не жди!
«Видя, что ему не удаётся меня уговорить, император прибавил, что все побывавшие в России, начиная с меня, рассказывали ему всяческие сказки о русском климате, и снова стал настаивать на своём предложении. Быть может, он думал, что мне неловко явиться в Петербург, где ко мне так хорошо относились, как раз в тот момент, когда Россия подверглась такому разорению; основываясь на этом предположении, император сказал мне:
— Ладно. Отправляйтесь только в штаб фельдмаршала Кутузова.
Я ответил, что эта поездка увенчалась бы не большим успехом, чем другая…»{158}
Не сумев склонить графа Коленкура к выполнению посреднической миссии, Наполеон решил возложить её на маркиза Лористона, сменившего, как мы помним, Коленкура в Санкт-Петербурге. «Я пошлю Лористона, — сказал, завершая разговор, император. — Ему достанется честь заключить мир и спасти корону вашего друга Александра».