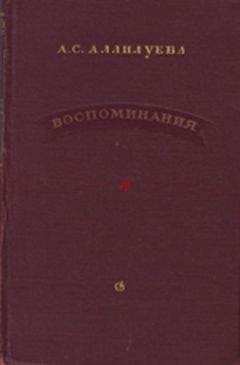Мы идем втроем — Шура, я, мама. Нас впускают на тюремный двор. Там уже толпятся люди. Как мы, они просят о свидании с заключенными. Мама здоровается со знакомыми. Я слышу, как кто-то спрашивает:
— Чья это девочка?
И кто-то негромко отвечает:
— Дочь Сергея.
Мы стоим против серой тюремной стены и глядим в провалы решетчатых окон.
Там, за решетками, люди. Много в каждом окне. Из-за решеток кивают, кажется, окликают. И вдруг рядом стоящие подталкивают меня:
— Нагнитесь, возьмите, вам бросили.
Как будто камешек упал к моим ногам. Наверное, из того окна. Я наклоняюсь, ощупываю в руке комочек. Закатанная в хлеб записка.
Нас просят принести теплые вещи и деньги. Деньги я передаю при прощальном свидании. В мрачное помещение за перегородку приводят арестованных. Под взглядами часовых мы обмениваемся скупыми фразами. Я сжимаю в руке двадцатипятирублевую бумажку. Передаем часовым теплые вещи и махорку.
— Ну, что же, до свидания, — говорят мне, и из-за перегородки протягивается рука.
Пожатие — деньги взяты. Может быть, я сделала это неловко, мой жест заметил часовой? Нет. Он безразлично глядит в сторону. Товарищей уводят.
Медленно, стараясь подольше задержать на нас взгляд, они скрываются за дверьми.
В этот день пронзительные крики газетчиков потрясли столицу.
— Война! — кричали на улице.
Германия объявила войну России… Война, война! Петербург менялся.
Назывался он теперь Петроград. Несли портреты царя по Невскому. Шли мобилизованные, пели:
Соловей, соловей, пташечка!
Печатались известия с фронтов. На картах в гимназии двигали пестрые флажки, отмечая путь союзных войск. На уроках рукоделия вязали шарфы и варежки, шили солдатам теплое белье.
Тихо на Выборгской. А на Невском оживление. Это принесла война. Больше, чем всегда, толпятся у витрин, движутся по проспекту нарядные, франтоватые, довольные люди. Дорогие платья и драгоценности… Рысаки с военными, мундиры всех полков… А война? Разве где-то есть война?
О войне говорят дома. Недавно мы увидели маму в белом платочке с красным крестом на груди. Сестра милосердия. Мама прошла курсы сестер в повивальном институте. Теперь она работает в госпитале, который торжественно, с молебном и банкетом, открыла «Компания 1886 года».
Мама рассказывает о раненых. Их все больше и больше. Искалеченные, страдающие, они говорят о предательстве на фронте. Горьким обманом обернулась парадная шумиха первых дней войны.
— А наши солдаты? Как они выносливы и настойчивы, — безответные смельчаки!
— говорит мама. И с горечью добавляет: — Но чего только не заставляют их терпеть!
…Домой из полковой казармы приходит Павел. Его призвали в армию в начале пятнадцатого года. Как монтера-техника, его оставили в Питере в авточасти. Иногда, добившись отпуска, он забегает на Сампсониевский. С раздражением он рассказывает о службе. В тыловой части скрываются от войны сынки питерской знати, купнов — все, кто могут откупиться от фронта. На лихачах v. часу переклички подкатывают они к казармам.
Унизительную муштру несут за них другие. В казармах озлобление, и, оживляясь, Павел рассказывает, что ему удается говорить по душам с солдатами, вызывать их на откровенность.
— Недовольных много. А там, на передовых позициях, их еще больше…
Павла скоро отправили на фронт. Мы пришли на вокзал проводить его. Вот когда ощутила я близость войны! Воинский эшелон уже стоял у платформы теплушки и серые шинели. Сколько их? Далеко уходит хвост поезда.
Соловей, соловей, пташечка!..
Все та же песня гремела из вагонов. Солдаты пели ее по-своему, она звучала грозно, заунывно и грустно:
Раз, два! — э-эх… Горе не беда.
Канареечка жалобно поет.
Солдаты кивали нам, шутливо окликали. Уныния на их лицах я не видела, а ведь едут на войну! Но об этом как будто никто из солдат не думал.
Бренча чайниками, они пробегали за кипятком. В свистках и грохоте вокзала тренькали балалайки, гудели гармони.
Павел стоял у теплушки и кричал нам:
— Сюда!
Он был веселый, точно вырвался на волю из надоевшего плена. Радовался подаркам, которые мы принесли ему. А мы вдруг загрустили, не могли это скрыть.
— Ну, ну, не надо, — улыбался Павел. — Ждите писем и не забывайте…
Теплушки с серыми шинелями мелькали перед нами. Мы долго смотрели вслед удалявшемуся поезду. Куда, в какую неизвестность мчатся все эти люди и с ними наш Павел? И, точно в ответ, сквозь лязг колес все гремело:
Война не прервала помощи сосланным товарищам. Надо быть только еще более осторожными! Каждый месяц отправлялись мы с Надей по давно выученным наизусть адресам, где нам вручали конверты с деньгами. С войной все дорожало, денег требовалось все больше. Опять мы упаковывали посылки, отправляли денежные переводы в далекое Заполярье. Оттуда, из ссылки, к папе обращались с поручениями.
Оттуда приходили письма, десятки писем. Настойчиво связывались из ссылки с волей. Но против тех, кто остался на воле, продолжались преследования.
Осенью арестовали большевистских думских депутатов.
Мама, расстроенная и взволнованная, рассказывала:
— Арестован Петровский. Только что узнала об этом от Доминики. Кажется, схвачены все депутаты-большевики.
Событие касалось знакомой нам семьи Григория Ивановича Петровского, которого папа знал с давних времен по Екатеринославу, где оба они работали на сталелитейном заводе и оба участвовали в заводском революционном кружке.
С женой Григория Ивановича, Доминикой Федоровной, мама сблизилась во время их общей учебы на акушерских курсах.
Много схожего было в судьбе мамы и Доминики Федоровны. Жены революционеров, они умели мужественно и терпеливо сносить превратности, выпадавшие на их долю: Мама говорила о Доминике:
— Энергичная она, деятельная… Со своей настойчивостью всего добьется.
И всегда неунывающая, жизнерадостная.
Мама, верно, не замечала, что она чертит свой собственный портрет.
Участь арестованных большевистских депутатов была вначале далеко не ясна. Для них требовали военно-полевого суда, грозили смертной казнью, вечной каторгой. Но ни у Доминики Федоровны, ни у жен других арестованных не опустились руки. Вместе с товарищами они предприняли все возможное, чтобы поднять общественное мнение против ареста своих мужей, облеченных, как депутаты, судебной неприкосновенностью. Они требовали свидания с мужьями и добились его. Они встретились и говорили с арестованными у подъезда Окружного суда, когда 'тех из тюрьмы привезли на допрос.