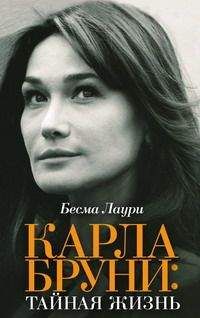«Москва – Пекин: здесь торжество материка, дух Срединного царства, здесь тяжелые канаты железнодорожных путей сплелись в тугой узел, здесь материк Евразии празднует свои вечные именины.
Кому не скучно в Срединном царстве, тот – желанный гость в Москве. Кому запах моря, кому запах мира» («Литературная Москва»).
О том, что сравнение с Пекином неслучайно, говорит его повторение в очерке «Сухаревка», где подчеркнута тема одичания:
«Сухаревка не сразу начинается. Подступы к ней широки и плавны, и постепенно втягивает буйный торг в свою свирепую воронку. Шершавеет мостовая, буграми и ухабами вскипает улица. <…>
Сухаревский рынок. 1920-е
Дикое зрелище – базар посредине города: здесь могут разорвать человека за украденный пирог и будут швыряться им, как резиновой куклой, – до кровавой пены; здесь люди – тесто, а дрожжи – вещи, и хочешь не хочешь, а будут тебя месить чьи-то загребистые руки. <…>
Недаром базары загоняют и отгораживают, как чумное место. Если дать волю базару, он перекинется в город и город обрастет шерстью… <…>
Такие базары, как Сухаревка, возможны лишь на материке – на самой сухой земле, как Пекин или Москва; только на сухой срединной земле, которую привыкли топтать ногами, возможен этот свирепый, расплывающийся торг, кроющий матом эту самую землю». (Н. Мандельштам вспоминала, что не прошел в печать более острый вариант: «которую топчут, как мать» – конечно, от выражения «земля-мать».)
В написанном позднее «Путешествии в Армению», в главе со значимым названием «Москва» описание комнат соседей по замоскворецкой квартире (Мандельштамы жили в Замоскворечье дважды – см. «Список адресов») опять же неслучайно вызывает в сознании восточные молельни-кумирни – отмечается подобный китайскому «культ предков»; китайская тема подспудно вводится также через сравнение вечерних красок московского неба с цветом чая:
«Внутри их комнаты были убраны, как кустарные магазины, различными символами родства, долголетия и домашней верности. Преобладали белые слоны большой и малой величины, художественно исполненные собаки и раковины. Им не был чужд и культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. Казалось, эти люди с славянски-пресными и жестокими лицами ели и спали в фотографической молельне. <…>
Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России; кирпичный колорит москворецких закатов, цвет плиточного чая, приводил мне на память красную пыль Араратской долины.
Мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны и в гробу, и в труде».
Маленькая древняя христианская Армения, в которой Мандельштам побывал в 1930 году, противопоставлена здесь «китайской» Москве.
К концу 1920-х годов этот мотив выразится в устойчивом определении Москвы: «буддийская». К этому эпитету мы еще вернемся. В данном же месте книги отметим также «китайские» детали в «Четвертой прозе» (1929–1930), имеющие отношение к Дому Герцена:
«В Доме Герцена один молочный вегетарианец – филолог с головенкой китайца – этакий ходя – хао-хао, шанго-шанго, когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой – лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, – сторожит в специальном музее веревку удавленника – Сережи Есенина.
А я говорю – к китайцам Благого, в Шанхай его к китаёзам! Там ему место!»
Д.Д. Благой – филолог, пушкинист. «С 1926 занимался организацией литературного музея в Доме Герцена, где был отдел памяти С. Есенина», – сообщает в своем комментарии А.А. Морозов [137] . Раздражительный выпад против Д. Благого, возможно, объясняется, помимо прочего, тем, что комната во флигеле Дома Герцена, о которой Мандельштам хлопотал для В. Хлебникова, досталась Благому. «Хао» – «хорошо» по-китайски. «Шанго» (искаженное китайское «шэнь хао», «очень хорошо») попало в русский язык во время русско-японской войны 1904–1905 годов, в дни мандельштамовской юности.
При этом в извращенном мире, который Мандельштам нарисовал в «Четвертой прозе», поэт и сам сознает себя совершенно чуждым окружающему – кем-то вроде китайца: «Я китаец – никто меня не понимает».
К «Четвертой прозе» мы еще обратимся ниже.
А в первой половине 1920-х Мандельштам пишет о том, как костенеет и набирает силу новый строй, усваивая особенности и черты старой российской государственности.
1 января 1924
Кто время целовал в измученное темя —
С сыновней нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших, —
Он слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.
Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.
О, глиняная жизнь! О, умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомóщная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль – искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И, с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.
Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина…
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога,
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.
По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко, собравшись как-нибудь,
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Все силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозный звук,
Не поддается петелька тугая,
Все время валится из рук.
Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых, как серебром плотвы.
Москва – опять Москва. Я говорю ей: «Здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я уважаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда».
Пылает на снегу аптечная малина,
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица, и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.
А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед,
Все шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью —