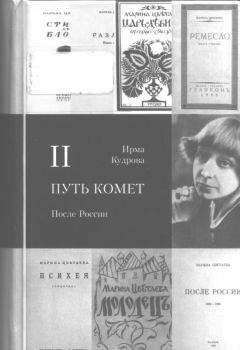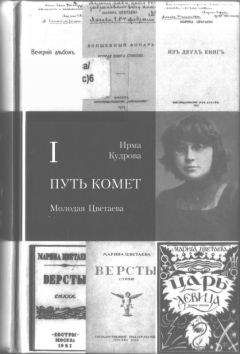Может показаться, на первый взгляд, странным, что цветаевские письма к Пастернаку ничуть не сбавили нежности.
«Я так скучаю о тебе, точно видела тебя только вчера», — пишет Марина Ивановна в одном из писем самого конца мая. У заочной любви, видимо, свои законы, — может быть, она ближе к дружбе, не претендующей на единственность…
И все же неким шестым чувством Пастернак догадывается о происходящем. Торопясь опередить трудные объяснения, он написал еще раньше, 23 мая: «Отдельными движениями в числах месяца, вразбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою, и любить этот воздух. Отчего я об этом прошу и зачем заговариваю? Сперва о причине. Ты сама эту тревогу внушаешь. Это где-то около Рильке. Оттуда ею поддувает <…> Я готов это нести. Наше остается нашим. Я назвал это счастьем. Пускай оно будет горем <…> Отчего не пришло тебе в голову написать, как он надписал тебе книги, вообще, как это случилось, и может быть что-нибудь из писем. Ведь ты стояла в центре пережитого взрыва — и вдруг — в сторону…»
С трудом решившись, Цветаева переписывает наконец для Бориса Леонидовича два первых рильковских письма к ней. А в очередном письме, адресованном Рильке, признаётся в том, что давно за собой знает:
«О, я плохая, Райнер, я не хочу сообщника, даже если бы это был сам Бог. — Я — многие, понимаешь? Быть может, неисчислимо многие! (Ненасытное множество!) И один не должен знать ничего о другом, это мешает. Когда я с сыном, тот (та?), нет — то, что пишет тебе и любит тебя, не должно быть рядом. Когда я с тобой — и т. д. Обособленность и отстраненность. Я даже в себе (не только — вблизи себя) не желаю иметь сообщника…»
Она отстаивает право на свой мир, скрытый даже от самых близких. Есть на свете высокие радости, разрушающиеся, как только в них допущен третий…
И если мы мало узнаём из этой переписки о литературе, то мы многое узнаём о ее творцах. Их душевный мир раскрывается нам здесь в ситуациях того напряжения, которое, застигая врасплох, гарантирует тем самым неподдельность проявляемых свойств натуры.
Мягкая сердечность Рильке, его трепетная душевная открытость и готовность с полной отдачей включиться в размышления, тревоги и сомнения своей неожиданной и страстной корреспондентки…
Щедрость Пастернака, безоглядного в нежности, неловкого, трогательного и чуть старомодного в своей почти чрезмерной деликатности. Подарив, в сущности, Цветаевой дружбу Рильке, он готов теперь, по прочтении рильковских писем, отойти в тень, не позволив себе и намека на горечь…
Стихийная природа Цветаевой, непрерывно преподносящая ей самой неожиданные сюрпризы…
Роль Марины Ивановны в этой переписке иногда напоминает роль подростка, испытывающего — дерзостями и неуправляемыми эскападами — пределы сердечной привязанности близких. Ибо когда Цветаева теряет душевный покой, она одержима неутолимой страстью говорить «всю правду, как она есть», без смягчения, оглядки — и необходимости. Ее шквальное упорство направлено на развенчание всех условностей и самообманов, на срывание всех покровов; она готова потерять всё и всех, но досказать то, что видится ей в эти минуты экстатического подъема.
Спустя два месяца переписка с Пастернаком все же прервется.
В клубке причин и поводов, нагромоздившихся с обеих сторон, трудно назвать главный. Но дело было не в Рильке.
Весной этого года Пастернак отправил жену с сыном в Германию, к своим родным. Долгое время она не отвечала на его письма, но позже, уже летом, взявшись за перо, вернулась к прежней теме: «Тебе перед Мариной неудобно читать мне ее письма, — пишет Евгения Яковлевна. — А мне от ее писем часто больно. Значит, таких писем не должно быть». Она пытается раскрыть глаза мужу: «Ты думаешь, что судьба свела тебя с Мариной, — я — что это ее воля, упорно к этому стремившаяся». «Для меня письмо твое — развод», — устало подытоживает Пастернак.
И все же он решается прервать на время переписку с Цветаевой. 30 июля в Вандею отправлено прощальное письмо. Пастернак явно через силу тверд в нем, объявляя свое решение прервать на время письменную связь. Он повторяет: «Главное было сказано навсегда. Исходные положенья нерушимы. Нас поставило рядом. То, в чем мы проживем, в чем умрем и в чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли…»
Уже на следующий день, взволнованный сам до глубины души, он снова берется за перо: «Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно, я вчера заболел, написав то письмо, но я его и сегодня повторяю <…> Умоляю тебя, не пиши мне. Ты знаешь, какая мука будет для меня получить от тебя письмо и не ответить. Пусть будет последним — мое. Благословляю тебя, Алю, Мура и Сережу, и все, все твое <…> кончаю в слезах. Обнимаю тебя…»
Когда спустя два с половиной года Цветаева будет вспоминать то, что пережила она, читая это письмо, ей придется сравнить остроту испытанной боли с ощущением ножа, проворачиваемого в сердце.
Ей было много легче отказаться от встречи с Борисом Леонидовичем, чем от возможности писать ему: в любой момент довериться перу и бумаге, зная, что конверт с несколькими ее страничками внутри будет горячей радостью для далекого друга… «Я не люблю встреч в жизни — сшибаются лбами», — писала она Пастернаку еще из Чехии. «Хочу Ваших писем: протянутой руки». Еще этой весной 1926 года она писала: «Что бы я делала с тобой, Борис, в Москве (везде, в жизни)? <…> Я не могу присутствия, и ты не можешь. Мы бы спелись». В другом письме: «Борис, Борис, как бы мы с тобой были счастливы — и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете, и особенно на том, который уже весь в нас…» И здесь — о том же. Не о соединении судеб, а о счастье коротких встреч. В каком-нибудь безбытном месте, в «нигде», как она это называет. Потому что обстоятельства, окружение, дни и числа все искажают…
В тот самый день, когда Пастернак отправил письмо о разрыве, тридцатого июля, Цветаева отмечала свои именины. В Сен-Жиле в это лето ей хватает друзей и знакомых, а значит, поздравлений и добрых слов. Но самым дорогим подарком оказалось письмо Рильке, пришедшее после двухнедельного перерыва. Как и прежние, оно было завораживающе сердечным — и очень грустным. Рильке снова написал о болезни — в самом конце письма объясняя задержку с ответом.
Б. Л. Пастернак с женой Евгенией Владимировной и сыном Женей. 1924 г.«Райнер, я хочу к тебе, — откликалась Цветаева спустя два дня, — ради себя, той новой, которая может возникнуть лишь с тобой, в тебе…» Она совершенно уверена, что их встреча принесет радость и Рильке; не считала ли она, что «неподвижность души», на которую он в этом письме жаловался, можно излечить живой нежностью?.. Тяжести состояния поэта она явно не понимает. «Скажи: да, — пишет она ему, — чтоб с этого дня была и у меня радость — я могла бы куда-то всматриваться…»