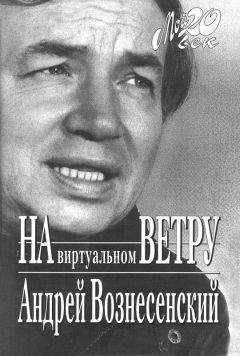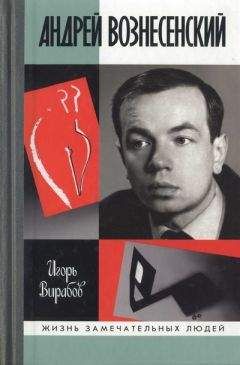Тут-то за антуражем и открывается истинное содержание поэта. Тут-то, пробившись, в действительную поэзию, в сферу неподдельного сочувствия человеку, мысль стихотворения и открывает самую коренную свою слабость. Поэт бессилен помочь чем-нибудь потерявшейся девчонке:
И опять и опять, как в салочки,
Меж столешниковых афиш,
Несмышленыш,
Олешка,
Самочка,
Запыхавшаяся, стоишь!
За бесшабашной удалью, которой щеголял Вознесенский, обнаруживается вдруг совсем иное качество. Ведь уже почти ничто не отделяет героиню Вознесенского от той беспомощности, которой отличается исчезающий тип «маленького человека».
Кто ты? Кто?! – Ты глядишь с тоскою
В книги, в окна, – но где ты там? —
Припадаешь, как к телескопам,
К неподвижным мужским зрачкам.
Я брожу с тобой, Верка, Вега!..
Приемля всю меру любви и сочувствия своей сверстнице, поэт воспринимает, а главное, разделяет и ее полную растерянность, подавленность, бессилие в несущемся потоке времени:
Я и сам посреди лавин,
Вроде снежного человека,
Абсолютно неуловим.
Как уживается в облике А. Вознесенского эта растерянность с широковещательными посулами, с молодецкими обещаниями воздвигнуть города и поджечь архитектурный институт, а то и самое землю? И откуда в эдаком удалом парне, запросто братающемся с Петером Рубенсом, Петром Великим, такие слабости? И почему поэт, как загипнотизированный, описывает круги около какого-то символического «критика из толстого журнала», осыпая беднягу ядовитыми стрелами? Есть ли общий корень у сильных и слабых сторон творчества Вознесенского?
Лирический герой Вознесенского поражен буйной и своенравной силой открывшегося ему мира, перед которым оказываются бессильными его книжные знания. Словно живую воду, пьет он морозный воздух жизни, переполняясь им, и трепеща перед его силой. Уверенность и робость сливаются в вопросе, который он задает жизни: «Поймешь ли, Мама? С кем ты, Маша? Мне страшно, Маша, за тебя!»
Уверенность и робость – это не случайное сочетание. А. Вознесенский, как поэт, еще только начинается, и лучшее из написанного им – это только прелюдия, заявка, символическое двоеточие, за которым может раскрыться (а может и не раскрыться) содержание бесконечно богатейшее – мир, время – через личность поэта. Поэтическая экспрессия Вознесенского, все эти вихри слов и образов – поэтическое отражение силы, бьющей, так сказать, через край. Но это еще не сила, осознавшая свою цель в жизни. «Мечтаю, чтобы зданья ракетою ступенчатой взвивались в мирозданье» – это мечта, мечта активная, но еще совершенно расплывчатая. Обещания воздвигнуть города – хорошие обещания, но, к сожалению, чисто символические. Лирического героя Вознесенского отличает доброе качество – готовность к действию, но она сможет перейти в действие только тогда, когда дополнится глубоким пониманием жизненных процессов, проникновением в душу тех героев, от имени которых хочет говорить поэт.
Попробуем определить конкретный облик излюбленных героев Вознесенского. Это и легко и трудно. Казалось бы, чего легче: вот они, чумазые парни из шахты, отчаянные шоферы, небритые бульдозеристы, гидростроители, таежники, белозубые ребята «из Коломн и Калуг» – новый, молодой рабочий класс! Но ведь связь лирического героя с этими людьми чисто внешняя, и люди эти – скорее яркая декорация, статичные фигуры фона при персоне автора:
«Нет» – слезам.
«Да» – мужским продубленным рукам.
«Да» – девчатам разбойным,
Купающим «МАЗ», как коня,
«Да» – брандспойтам,
Сбивающим горе с меня!
Нас интересует тут не прием – «через личность» (в поэзии все через личность), а качества самой этой личности. Ибо, восхищаясь буйными своими сверстниками, лирический герой наблюдает их, как смотрят в бинокль на новую страну с борта парохода, а сам он, герой, остается все тем же чуть испуганным городским мальчиком, которому почерпнутые из книг знания не могут объяснить всех сложностей и который, восхищаясь своими сверстниками, по-настоящему еще не знает их. И каждый раз, когда Вознесенский ощущает этот холодок незнания и отчужденности, с особой яростью раскручиваются в его стихах бумажные параболы, бунтуют и бубнят рифмы и дружно обступают читателя гумарнитарно-технические «приметы» ракетного века…
«Знамя», № 9, 1961
Александр ДымшицИ все же главное ощущение – неудача.
Письмо читателю в АрхангельскУважаемый товарищ Ч!
Вы написали мне, что вас удивляет и огорчает стихотворный цикл Андрея Вознесенского «Тридцать отступлений» из поэмы «Треугольная груша», опубликованный в № 4 «Знамени». Вы пытались читать его вместе со своими друзьями и вместе с ними пришли к выводу, что стихи эти далеки от народности. Вы хотите, чтобы я написал Вам, что я думаю об этом цикле.
В этом цикле, который – скажу сразу – мне не понравился, я вижу и удачные стихотворения (например, «Секвойя Ленина») и отдельные удачные образы и строки. И все же главное ощущение – неудача. Притом не просто неудача, а неудача, вызванная ошибочными творческими предпосылками. Вот о них-то и хочется поговорить. Поэзия – это сложнейший «аппарат», и если в нем обнаруживаются помехи, на них важно указать. Ведь это может помочь их устранению, это может помочь и автору (если он расположен к критике), и поэзии, для судеб которой не безразлична судьба каждого одаренного человека.
В связи с новым циклом Андрея Вознесенского передо мной встают два вопроса: об идейной нравственной цельности авторской личности и о закономерности (или произвольности) творческих решений. И мыслями о них я хочу поделиться с вами…
… Поэзия – закономерность. В ней не должно быть места субъективному произволу, столь характерному для искусства модернистского, столь принципиально чуждому искусству социалистического реализма.
Теперь об Андрее Вознесенском, о тридцати отступлениях из «Треугольной груши». Вы, вероятно, заметили, что автор связывает эти стихи с поэмой «Открытие Америки». Он соперничает с Маяковским, с его «открытием Америки» его зарубежными стихами.
Ну что же, не будем сравнивать Маяковского с Вознесенским (вы, разумеется, понимаете, что речь идет не о различии поэтов, а о различии некоторых творческих принципов в поэзии). Вспомним лишь, что прежде всего поражало в зарубежных стихах Маяковского, что составляло их принципиальную «особость», и задумаемся: есть ли эта «особость» у Вознесенского и как она выражена?
В стихах М. о капиталистическом Западе, о Франции, об Америке, о тогдашней Польше и Чехословакии всегда поражала нас личность поэта. Это было именно «мое» открытие старых миров, «мое к этому отношение». Видел, показывал, обдумывал, судил эти миры Маяковский – поэт необыкновенной идейной цельности и политической страсти, «полномочный посланец» советской литературы, человек новой духовной формации, взиравший на мир капитализма, как социалистический Гулливер на царство лилипутов. Позиция М. стала позицией всех советских литераторов, писавших в последующем о капиталистическом мире. Это позиция твердого социального превосходства над буржуазным миром, позиция интернациональной солидарности с угнетенными и эксплуатируемыми, позиция революционного гуманизма.