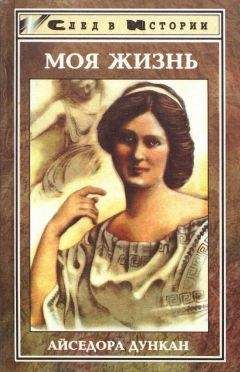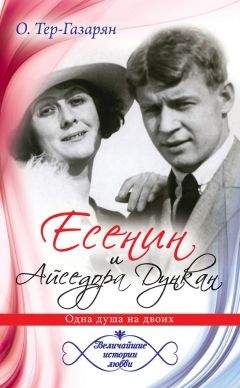Никогда не забуду картину, как Дузе гуляла по этим садам. Все встречные прохожие расступались перед ней и глядели на нас с уважением и с любопытством. Дузе не любила, когда публика смотрела на нее. Она выбирала окольные дороги и боковые аллеи, чтобы избежать людских взоров.
Но если Дузе приходила в личное соприкосновение с людьми, нельзя было найти более симпатичного и обаятельного человека.
Декорация для «Росмерсхольма» продвигалась вперед. Каждый раз, когда я приносила в театр Крэгу его завтрак либо обед, я заставала его в состоянии, граничащем с гневом или с неистовой радостью. То он считал, что его работа окажется величайшим зрелищем, какое увидит артистический мир, то кричал, что он ничего не сможет добиться в этой стране, где нет красок, нет работников, где все он должен делать сам.
Приближался час, когда Элеонора должна была увидеть законченные декорации. Я удерживала ее до тех пор всяческими маневрами, какие я только могла придумать. Когда все же этот день наступил, я зашла за ней и в назначенный час повела ее в театр. Она была в состоянии сильного нервного возбуждения, которое, я боялась, могло в любую минуту разразиться, как шторм, яростной бурей. Элеонора встретила меня в передней своей гостиницы. Она облачилась в длинное коричневое меховое пальто и коричневую меховую шапку, похожую на шапку русского казака и надвинутую набекрень на глаза. Несмотря на то, что Дузе, по совету своих любезных друзей, иногда покровительствовала модным портным, она никогда не умела носить сшитое по моде платье и иметь сколько-нибудь шикарный вид. Ее платье всегда было вздернуто с одной стороны и свисало с другой. Шляпа всегда была сдвинута набок. Как бы дорого ни стоили ее наряды, она носила их, как бы покоряясь тому, что они сидят на ней.
По пути в театр я чувствовала такое волнение, что едва могла говорить. С тонкой дипломатичностью я удержала Дузе, когда она хотела броситься через артистический ход, и провела ее в ложу, через заранее открытые мной главные двери. Наступило долгое ожидание, в течение которого я пережила несказанные муки, ибо Дузе все спрашивала:
— Будет ли окно таким, как я его себе представляю? Где же декорации?
Я крепко держала ее за руку, сжимая ее, и говорила:
— Одну минуту… Вы скоро увидите. Имейте терпение.
Но мной овладевал страх при мысли об этом «небольшом» окне, которое приняло размеры самые исполинские, какие можно себе представить.
Время от времени раздавался повышенный голос Крэга, пытающегося говорить по-итальянски и выкрикивающего:
— Черт побери! Черт побери! Почему вы это здесь не поставили? Почему вы не делаете того, что я вам говорю?
Затем вновь наступило молчание.
Наконец, после ожидания, которое, казалось, длилось часы, и я чувствовала, что растущее раздражение Элеоноры готово прорваться в любую минуту, занавес медленно поднялся.
О, могу ли я описать, что предстало перед нашими пораженными, восхищенными глазами! Я говорила о египетском храме? Ни один египетский храм никогда не сверкал такой красотой! Ни готический собор, ни афинский дворец! Никогда не видала я ничего подобного. Минуя обширные голубые просторы, небесную гармонию, возносящиеся линии, огромные высоты, душа каждого из нас устремлялась к свету этого исполинского окна, за которым виднелась не маленькая аллея, а бесконечная вселенная. В этих голубых просторах заключалась мысль, созерцание и земная печаль человека. Разве это была жилая комната «Росмерсхольма»? Не знаю, как воспринял бы ее Ибсен. Вероятно, он пришел бы в такое же состояние, как и мы, — безгласное и поглощенное.
Рука Элеоноры сжала мою. Я видела, как слезы струятся по ее прекрасному лицу. Несколько минут мы просидели в безмолвии, сжимая друг другу руки. Затем она взяла меня под руку и потащила из ложи, быстро, большими шагами устремилась по коридору на сцену. Она остановилась на сцене и голосом, воплощавшим Дузе, воскликнула:
— Гордон Крэг! Подите сюда!
Крэг вышел из-за боковых кулис, с застенчивым, точно у мальчика, видом. Дузе заключила его в объятия, и из ее уст полился такой поток итальянских похвал, что я не успевала переводить их Крэгу. Они струились, как вода, бьющая из фонтана.
Крэг не плакал от волнения, как мы, но в течение долгого времени оставался безмолвным, что было для него признаком глубокого волнения.
Артисты безучастно ждали за кулисами. Дузе созвала всю труппу к себе. Она произнесла перед ними воодушевленную речь:
— Моим уделом было найти великого гения, Гордона Крэга. Я намереваюсь посвятить остаток моей сценической карьеры показу миру его великого творения.
Держа руку Крэга в течение всей своей речи и неоднократно обращаясь к нему, она говорила о его гении и о новом великом возрождении театра.
— Лишь благодаря Гордону Крэгу, — повторяла она, — мы, жалкие актеры, избавимся от чудовищности того морга, каким является современный театр.
Вообразите мою радость при ее словах. Я была тогда молода и неискушенна. Увы! Я верила, что в минуты высшего энтузиазма люди действительно думают то, что говорят. Я рисовала себе Элеонору Дузе, отдающую свой великолепный гений служению искусству моего великого Крэга. Я рисовала себе будущее как несказанный триумф Крэга и расцвет искусства театра. Увы! Я не учла непостоянства такого энтузиазма.
При первом представлении «Росмерсхольма» огромная нетерпеливая толпа заполнила театр Флоренции. Когда занавес поднялся, раздался единый вздох восхищения. Иначе и не могло быть. Это единственное представление «Росмерсхольма» до сего дня хранят в памяти знатоки искусства во Флоренции.
Мы вернулись со спектакля в приподнятом настроении. Крэг сиял от радости. Он видел перед собою свое будущее, ряд великих творений, посвященных Элеоноре Дузе, которую он сейчас восхвалял так же искренне, как прежде негодовал на нее. Как жаль, что есть людское непостоянство! Это был единственный вечер, когда гений Дузе сполна развернулся в постановке Крэга. Она продолжала играть в своем репертуаре. Каждый вечер шли разные пьесы.
Как-то утром, когда возбуждение стихло, я, посетив банк, выяснила, что мой счет совершенно иссяк. Появление ребенка, потребности Грюневальдской школы, наша поездка во Флоренцию — все это поглотило мои денежные ресурсы. Назрела необходимость подумать о каком-либо способе вновь пополнить денежный сундук. Тут своевременно подоспело приглашение от одного петербургского импресарио, спрашивавшего меня, готова ли я вновь танцевать, и предлагавшего контракт на турне по России.
И вот я, оставив ребенка на попечение Мэри Кист, а Крэга — заботам Элеоноры, села в экспресс, направлявшийся через Швейцарию и Берлин в Петербург. Первая разлука с ребенком, а также с Крэгом и Дузе была для меня очень мучительна.