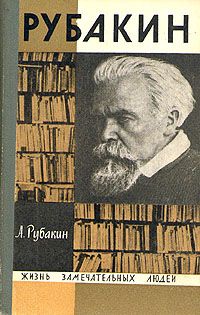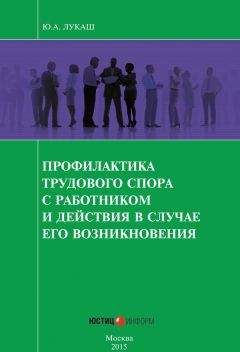Постепенно Рубакин завел и многочисленные знакомства среди швейцарских ученых, учителей, профессоров. В особенности он был связан с известным профессором психологии в Женеве З.Клапаредом, директором педагогического Института имени Ж.-Ж.Руссо Бонэ, профессором Феррьером, крупнейшим швейцарским психиатром А.Форелем. Форель, уже вышедший на пенсию, жил в маленьком городке Эгль в долине Роны, и отец ездил к нему время от времени.
В 1918 году, когда Рубакин стал широко разрабатывать теоретические проблемы психологии читательства и создавать библиопсихологию, он тесно связался с Институтом Ж.-Ж.Руссо в Женеве и совместно с Бонэ и Клапаредом основал при этом институте «Секцию библиопсихологии», включив в нее свою библиотеку.
Вхождение библиотеки отца в Институт Руссо имело в чисто практическое значение. Это ее легализовало в глазах швейцарских властей, а это было тем более важно, что те уже давно косились на библиотеку и в случае его смерти могли ее забрать себе.
Библиотека эта содержалась исключительно на средства моего отца – на его заработки, а потом и на его пенсию. За предоставление ее в пользование своим друзьям и знакомым он ничего не брал.
В 1922 году Рубакин из Кларана переехал в Лозанну и перевез туда библиотеку. Была найдена большая квартира в верхней части этого расположенного амфитеатром на горах города, в тихой улице – авеню де Мускин – с большими балконами, с которых, как и из окон, открывался изумительный вид на весь город, на Женевское озеро, на Савойские Альпы и далеко-далеко в сторону долины Роны. Только в Швейцарии можно было найти жилище с таким сказочным видом и простором, но отец, по существу, мало его ощущал. В Петербурге мы жили в квартире, выходившей на грязную, узкую, скучную Большую Подьяческую, некоторые комнаты выходили на типичный петербургский двор, похожий на колодец, грязный, пропахший запахами из кухонь и кошками, а позже мы жили на Екатерининском канале, где тоже перед глазами была мутная скучная гладь этого протока с облезлыми тоскливыми домами напротив. И там мой отец не замечал этого. Хотя в Швейцарии он любил гулять, но во время прогулок он был целиком поглощен своими мыслями, обдумывал свои книжные проекты, мало что замечал вокруг. Но ходил он много. Жители Лозанны, среди которых он был очень популярен, хорошо помнят его высокую фигуру в старом, вышедшем из моды пальто – «крылатке», его подпрыгивающую быструю походку, когда он ходил на свои обычные прогулки к берегу Женевского озера. Для него красота природы служила только средством пробуждения разного рода мыслей и эмоций.
Это был человек, который с восторгом писал о необходимости красоты вокруг нас, о лесах и полях, о морях и о горах, о достижениях человеческого гения, об уме животных и т.п. Но он наслаждался всем этим мысленно, как отражением в своем собственном сознании, а не как прямым и непосредственным возбудителем в нем различных эмоций. Поэтому-то он и не замечал красот природы, был равнодушен к животным. Последнее обстоятельство чрезвычайно огорчало нас с братом, так как в нашем доме не было ни собак, ни кошек.
Человек, не только понимавший, но и с энтузиазмом проповедовавший тесную связь теории и практики, книжного и реального, красоты природы и величия вселенной, полноценной и содержательной жизни, он сам жил все время в мире тех мыслей и образов, которые рождались в его мозгу, втискиваясь туда как-то незаметно для него самого из окружавшего его сознание мира. В этом была сила и слабость его целеустремленной жизни, в которой поставленная им цель поглощала в нем все, охватывала его целиком. Во имя этой цели он остался вдали от Родины, полагая, что так сможет больше для нее сделать.
Нельзя сказать, что он не любил жизненных благ, хотя жизнь и не баловала его настолько, чтобы он мог всегда ими пользоваться.
В рабочем кабинете сперва в Кларане, потом в Лозанне Рубакин провел почти сорок лет своей жизни в Швейцарии. И всюду окружающая его обстановка была почти одинаковой. Простые деревянные полки с книгами тесно прилегали к стенам его квартиры. Они заполняли столовую, коридор, кухню, комнату, где он спал, они обступили его кровать сверху и снизу. Даже под кроватью лежали пачки книг, еще не разобранных, которые он обычно просматривал по вечерам в постели перед сном.
Книги и газеты, в том числе и самые старые, нельзя было ни уничтожать, ни рвать, ни уносить из дому. В нашем доме, где получались десятки газет, не находилось листа бумаги для обертки: все газеты должны были составлять «полные комплекты».
Характер у моего отца был крайне противоречивый. С одной стороны, купеческая среда, в которой он жил в детстве, оставила в нем черты «мелочности и копеечности», которые он сам признавал. С другой стороны, будучи скупым в мелочах, он совершенно не умел вести свои коммерческие дела, то есть отношения с издателями. С одной стороны, у него воспитывали недоверие к людям, в частности, к служащим его отца, их, как все хозяева той эпохи, подозревали в воровстве и в разных других пороках. А с другой стороны, отец отличался чрезмерным доверием к совершенно незнакомым людям, и главным образом к своим читателям, с которыми он переписывался или даже имел дела лично.
Меньше всего, пожалуй, он доверял членам своей семьи, хотя и утверждал всегда противоположное. Так, своей второй жене, Людмиле Александровне, он всегда говорил, давая деньги, чтобы она не тратила на хозяйство лишнего, и подозревал, что она тратит все-таки слишком много. Не доверял он и мне, когда давал деньги на мою студенческую жизнь, – все думал, что я их истрачу на что-нибудь, с его точки зрения, ненужное. А ненужными расходами он считал все расходы, кроме как на книги. Давая с великим трудом гроши на покупку нового костюма, когда я был студентом, он всегда говорил: «Смотри, чтобы тебя не обсчитали, купи подешевле». Он воображал, что и в Швейцарии и во Франции в магазинах будут обсчитывать, как это делали российские купцы.
На получаемые от отца деньги я вообще мог покупать из одежды самую что ни на есть дрянь, она быстро изнашивалась, и мне опять приходилось просить у него денег, а опять росло его недоверие к моим расходам. Для себя он никогда ничего не покупал, не покупал ничего и для подарков моей матери, или потом мачехе, или детям. Он считал это ненужным, ему это просто не приходило в голову. Иногда, на рождение или на другой семейный праздник, он дарил мне книгу, считая, что этим меня осчастливливает. На это всегда были дублеты тех книг, которые уже имелись в его библиотеке. Подарить книгу, которой у него не имелось в библиотеке, казалось ему чудовищным. Подарив книгу, он долго расхваливал ее, рассказывал про автора, выказывая всю свою громадную эрудицию, а потом вдруг спохватывался: