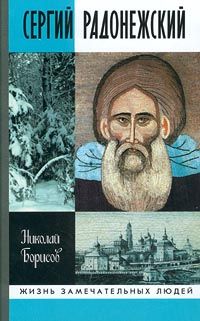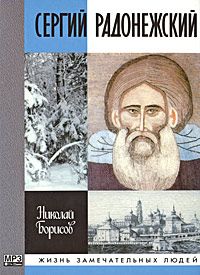— С удачей тебя, Иване! Гляди, в цареву милость взойдешь!
Федоров обнял его.
— И тебя с удачеЙ! Всех вас, ребята, с удачей! Господи! Сбылось! Начнем теперь работать от души…
Веселые покинули двор. Стрельцы заперли за печатниками ворота. На Никольской еще не разошелся народ. Обступил Федорова и товарищей.
— А ну, годи! — сказал Федоров своим.
Он обвел толпу радостным взглядом, расправил плечи:
— Люди московские! Ныне наладили по царскому велению штанбу для книг! Призваны ересь посрамлять и латинян, и посрамим их во славу церкви и всего люда христианского! Зане веруем в господа бога нашего Иисуса Христа и святую троицу! Зане вам послужить хотим!
Митрополит Макарий тихо скончался полгода спустя после открытия печатни.
Накануне его навестил государь. Долго пробыл один у постели умирающего, вышел из опочивальни быстрым шагом, ни на кого не глядя, дергаясь лицом.
Маврикий, постаревший, осунувшийся, тайно поведал Федорову: умолял митрополит царя учинить мир в царстве, не казнить более бояр, оставить пьяное питье и разврат.
— А государь?
— Бегал по опочивальне, жаловался, бранился… Сказал, что не хочет о боярах слышать. Что не митрополитово дело сие — за изменников заступаться…
— Да-а-а…
— Большим бедам быть, Иване! Чую! — озирнувшись, молвил Маврикий. — Уж если и с церковью святой государь ссору замыслил, не видать добра на Руси…
Федоров молча кивнул головой.
После отпевания Макария он не пошел в печатню, ноги сами привели к дому.
Сидел, положив голову на руки, думал.
Многим он был обязан митрополиту. В Москву призвал, поддерживал, если трудно приходилось, от клеветы защищал… Был добр и заботлив, и хотя не всегда прям, а порою лукав, слаб, как всякий человек, но стремился, чтобы по правде жизнь учинилась, всем блага хотел…
Кто заменит Макария? Нет равных ему по уму среди нынешних архиереев. Не будет больше рядом с царем духовного отца, который мог бы смягчить сердце Ивана Васильевича.
Что-то ждет теперь государство?
Как своя судьба сложится?
Не поднимут ли головы старые враги?
Опасения Ивана Федорова начали сбываться поразительно скоро.
Уже на пятый день после избрания в митрополиты архиепископа чудского Афанасия новый владыка призвал к себе печатника.
Маврикий успел предупредить:
— Навет на тебя…
Афанасий был толст, лицом кругл, но полнота его шла, видно, не от здоровья, а от скрытых немощей. Карие, с неуловимым взглядом глаза нового митрополита — в непрерывной мышиной беготне.
Начал Афанасий с визга. Потрясал каким-то листом, не давая его Федорову в руки, поносил печатника, не скупясь на грязные слова.
Иван Федоров угрюмо ждал, когда Афанасий выдохнется.
Потом спросил:
— Пошто срамишь? В чем я виноват?
— На колени, на колени стань, раб лукавый! С кем говоришь, язычник? Страх божий потерял!
Иван Федоров, потемнев, опустился на колени.
— Распустил вас покойный Макарий, царство ему небесное! Распустил! Воли много дал! Возомнили о себе!.. Ты кто есть?
— Государев печатный мастер.
— За что сана лишен?
— Не лишили меня сана… Жена у меня умерла…
— А с какой бабой посля жил?
— То мамка сыну была, владыка.
— Врешь, сатана! Всем ведомо!
Иван Федоров молчал.
— Признавайся, пес! Принеси покаяние!
Федоров через силу проговорил:
— Каюсь, владыка… Да то давно было…
— Молчи! Давность греха не оправдывает! Суесловить привык, гляжу! Ты что ж? В блуде жил и священных книг касался, нечестивец? А?
— Касался, владыка.
— Ага!.. Правду, стало быть, что не почитаешь ты бога! Правду? А?
Иван Федоров поднял мрачные глаза.
— В господа бога нашего верую свято.
— Свято? А пошто латинские книги хранишь? Пошто с лютеранской библии рисунки срисовывал?
— Латинские книги мне покойным митрополитом дадены. Он же и срисовывать с них велел.
— Не клевещи!
— И сам государь Иван Васильевич наказывал за образец их брать.
Афанасий немного утих.
— Спрошу государя.
— Спроси, спроси, владыка. Государь нас много за рисунки хвалил.
Иван Федоров был доволен, что хоть здесь уязвил Афанасия, сразу растерявшегося, как услыхал про царскую похвалу. Но и митрополит не остался в долгу.
— Те книги мне принесешь. Погляжу…
Маврикий, бледный, скучный, утешил:
— Ништо… Меня тоже бранит… Не противься.
— Я царю доведу! — возбужденно сказал Федоров. — Ни за что хула!
— Лучше стерпи, — упавшим голосом посоветовал Маврикий. — Стерпи…
В разряде по-прежнему давали печатникам жалованье, дьяк Иван Михайлович Висковатый, наблюдавший за печатанием Апостола, раза два требовал на просмотр готовые листы, но вернул их без замечаний, ничего не сказав, и по всему чувствовалось: печатней никто не интересуется. Митрополит Афанасий, как доводил Маврикий, и вовсе посетовал однажды, что с книгами печатными связались. Дорого-де и хлопотно и в нарушении обычаев… Только писцов обидели.
Чтобы поменьше раздумывать, Иван Федоров торопил товарищей с работой и сам с утра до вечера стоял у станков, помогал печатать, вычитывал пробы, выправлял наборные формы.
Приходя домой, валился спать. Почти не говорил с сыном, которого обучал переплетному делу. Сын все равно бы не разделил отцовских тревог. Не интересовали его книги.
Только одного хотелось Федорову: закончить работу над Апостолом без помех.
За светлыми, венецийского стекла окнами штамбы занимались и гасли зори, а потом небо обволоклось в серую дерюгу сентябрьских облаков, заплакало безземельной вдовицей, и по стеклу поползли тяжелые слезы…
Иван Федоров и Петр Тимофеев работали.
В иные дни упорного труда им удавалось оттиснуть по двадцать пять листов текста для четырехсот томов Апостола.
По десять тысяч раз за день поднимался и опускался пиан, десять тысяч раз руки брали бумагу, укладывали под пресс, нажимали на рычаги, снимали готовые листы, вешали их для просушки.
Поутру на свежую голову листы лишний раз вычитывали.
Снова и снова скользил пиан, шуршала бумага, скребла по набранным формам маца, и снова сушились готовые оттиски.
От едких запахов першило в горле. Печатники покашливали, отворачиваясь от формы и бумаги. У Федорова к концу дня начинала болеть голова. Он не жаловался. Только прикрывал порою глаза, обманывая самого себя выдумкой, что так легче…
В иные дни, проснувшись, Федоров чувствовал: нет сил подняться, идти на Никольскую, отпирать двор и опять до вечера стоять на ногах, подкладывая бумагу под равнодушно опускающуюся доску.