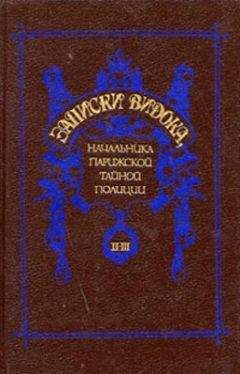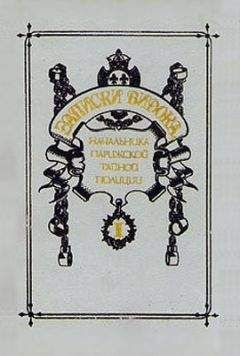Эта речь, во время которой никто не перебивал меня, была покрыта свистками. Скоро рев и вопли возобновились с удвоенной силой, мною овладело одно только чувство — беспредельное негодование. В порыве гнева я сделался невероятно смелым. Когда осужденных должны были вести во двор для заковки, я встал у них на проходе и, решившись дорого продать свою жизнь, стал ждать, посмеют ли они выполнить свои угрозы. Признаюсь, я внутренне желал, чтобы один из этих презренных дерзнул поднять на меня руку, до того меня обуяла страсть мести. Горе тому, кто осмелился бы бросить мне вызов! Но никто из несчастных не сделал даже движения, и я отделался молниеносными взглядами, я вынес их с уверенностью и твердостью, которые всегда конфузят неприятеля. После переклички послышался глухой гул, предвестник нового гвалта, меня осыпают бранью, снова проносится крик: «Пусть же он идет! Он останется у двери!» — с прибавлением к моему имени самых грубых эпитетов. Выведенный из себя этими оскорбительными вызовами, я вошел в здание с одним из моих агентов и очутился среди двухсот разбойников, большею частью арестованных мною: «Ну же, смелей! смелей, братцы! — кричат голоса из камер одиночно заключенных, — оцепите свинью… бейте его… пусть от него следов не останется!..» Теперь настал момент выказать всю свою смелость.
— Что же, господа, убейте его, — сказал я, — убейте же, за чем же дело стало? Вы видите, что вам подают хорошие советы: отчего вам не попробовать последовать им?
Уж не знаю, какой внезапный переворот совершился в них, но чем более я приближался к ним, чем более поддавался их власти, тем более они усмирялись. Перед окончанием церемонии заковывания эти люди, поклявшиеся уничтожить меня, до такой степени смягчились, что некоторые из них даже попросили меня оказать им некоторые мелкие услуги. Конечно, я поспешил сделать все что мог, и на другой день, во время отправления партии, мои враги радушно распростились со мной, поблагодарив меня за мою обязательность. Все эти волки превратились в ягнят; самые неукротимые сделались смирны, почтительны, по крайней мере по виду, даже до унижения.
Этот опыт послужил мне уроком, которого я никогда не забывал; он доказал мне, что с людьми такого закала всегда следует обращаться как можно круче и решительнее, и чтобы держать их всегда в повиновении, стоит постращать их только один раз. С этих пор я не пропускал ни одной партии, не осмотрев арестантов при заковке, и, за немногими исключениями, я не испытывал более никаких оскорблений. Заключенные привыкли меня видеть, и если бы я не явился, всем показалось бы, что чего-то недостает. Многие из арестантов давали мне разные поручения. В тот момент, когда над ними совершалась, так сказать, гражданская казнь, я становился их душеприказчиком. У небольшого числа из них ненависть ко мне не совсем улеглась, но злоба вора не отличается продолжительностью. В течение восемнадцати лет, пока я вел войну с мошенниками всякого разбора, мне угрожала опасность; немало каторжников, известных своей неустрашимостью, поклялись лишить меня жизни, коль скоро они освободятся. Но никто из них не исполнил своей клятвы и не исполнит ее никогда. Знаете ли, отчего? Оттого, что для всякого вора первое, единственное дело — это воровать, это занятие исключительно поглощает его. Если он не может избегнуть этого, он убьет меня из-за моего кошелька — это входит в круг его ремесла; он убьет меня, пожалуй, чтобы удалить докучливого свидетеля, все это допускается его ремеслом; он убьет меня, чтобы ускользнуть от наказания; но если возмездие свершилось, к чему тогда убивать? Воры не теряют времени в бесполезных для них убийствах.
Выгода иметь здоровый желудок. — Гревские ласточки. — Прихоти этих господ. — Аннетта, или «Добрая женщина». — «Видок влопался» — новая комедия. — Я исполняю роль Видока. — Я помогаю бежать одному преступнику. — Чулки и башмаки, служащие уликой. — Пощечина. — Меня арестуют. — Мое освобождение. — Повязка спадает.
Однажды, проведя часть ночи в притонах Рынка, надеясь встретить там каких-нибудь мошенников, которые в припадке добродушия, обыкновенно вызываемого двумя-тремя лишними рюмками водки, проболтаются о своих прошедших, настоящих и будущих подвигах, я шел домой в скверном расположении духа и недовольный тем, что проглотил понапрасну и в ущерб своему желудку несколько рюмок отвратительного напитка — разбавленного спирта, приправленного купоросом. Вдруг на углу улицы Кутюр-Сен-Жерве я увидел нескольких людей, притаившихся в амбразурах дверей. При свете фонарей я не мог не различить лежащие около них узлы, объем которых они тщательно пытались скрыть. Узлы в этот час ночи, люди, скрывающиеся в углублениях дверей, когда нет ни капли дождя — все это показалось мне весьма подозрительным. Я заключил из этого, что люди эти — воры и что в узлах заключается захваченная ими добыча. Хорошо же, подумал я, не будем показывать виду, что заметили кое-что, последуем за процессией, когда она выступит, а если она пройдет мимо гауптвахты, тогда голубчики мои пропали! В противном случае я провожу их на ночлег, узнаю их номер и отправлю туда полицию. Едва успел я пройти несколько шагов, как меня окликнули: «Жан-Луи!» Я узнал голос некоего Ришло, которого я часто встречал в сборищах воров; я остановился.
— Добрый вечер, Ришло, — сказал я, — на кой черт ты слоняешься тут в такую пору? Ты один или нет? Однако какой у тебя испуганный вид.
— Еще бы не испуганный, чуть-чуть было не влопался (попался). — Влопался? Скажите, пожалуйста, ради чего же?
— Ради чего? А вот подойди и увидишь, там приятели с тырманом (добычей).
— А, так вот что, понимаю.
Я приблизился, и вся компания поднялась, на ноги; я узнал Лапьера, Камери, Ленуара и Дюбюиссоиа. Все четверо сделали мне самый дружеский прием и протянули руки.
Камери. Ну уж хорошо мы отделались, нечего сказать. У меня до сих пор сердце бьет тревогу; положи-ка сюда руку; слышишь, так и трепещет…
Я. Ничего, не беда.
Лапьер. О, и подумать страшно, какая у нас тут стрема (опасность, тревога) была; за спиной зелень (парижская гвардия в зеленых мундирах)… просто мороз по коже подирает.
Дюбюиссон. И к довершению всего Гревские ласточки (парижские драгуны) носом к носу, на лошадях при самом повороте около Gaite…
Я. Ах вы олухи! Надо было весь тырман свалить на извозчика. Какие же вы после этого мазурики?
Ришло. Бранись сколько душе угодно, а ловака (лошади) у нас не было, а надо было выпутаться во что бы то ни стало, вот мы и пробираемся нарочно по побочным улицам.