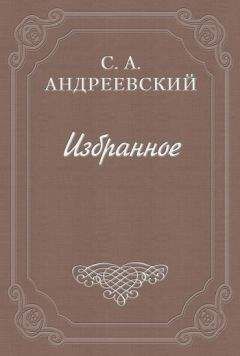А сколько еще впереди, в «долготе веков», будет звучать загробный голос Толстого? Кажется, до незримой бесконечности будет цитироваться этот вероучитель общежития в судах, в конгрессах мира, будет волновать военных, будет мутить и преображать правителей и т. д., и т. д. Словом, конца-краю не видать живучести среди людей громадной тени этого феноменального человека. Не человек, а «Явление» (выражение, слышанное мною в литературных кружках) – «Глыба!» (тоже кто-то сказал).
Да, скажу я, Глыба, или гигантская Гора, чистая снежная вершина, на которой, однако, жить все-таки невозможно…
Вот почему меня никогда не тянуло повидать Толстого. Та истина, которую он думал утвердить своею верою, была слишком чужда моей природе. Спорить с этим силачом было бы бесполезно. Заимствовать же от него я ничего не мог.
Рассудочность толстовского учения уничтожила для меня его смысл. Толстой верил, главным образом, в Совесть и Разум. Но – Сердце! Его сердце ведало только доброту.
Но страсть, но самозабвение – привязанности более ценные, чем сама жизнь, бесплотные мечты, неизреченные тайны Красоты, сулящие тот обман, который дороже тысячи истин!.. Да и что такое Истина? Кто ее нашел? И не опустел ли бы сразу весь земной шар, если бы она была найдена?
Тайна жизни – вот что мнил раскрыть и превозмочь Толстой. Но титанические усилия его необычайного Духа ни на единую черточку не сдвинули с места этого вековечного Запрета…
Сентябрь, 1911 г.
Убили Столыпина. Трагедия сильного, талантливого человека. Удивительна эта карьера, всего за какие-нибудь шесть лет, от Саратовского губернатора почти до Российского императора.
К открытию первой Думы Столыпин был взят из губернаторов на роль министра внутренних дел. Сквозь крики: «Вон! Вон!» Столыпин предварял первую Думу напряженным голосом: «Я обладаю всею полнотою власти!».
Он чувствовал в себе эту власть… Вторую Думу он уже в качестве премьера встретил предварением: «Не запугаете», а в третьей – у него явились «волевые импульсы» и «нажим на закон». Этими четырьмя фразами обрисовывается вся политическая деятельность Столыпина. Сперва усмирение, с наилучшими либеральными надеждами, а затем опьянение своею властью и самоуверенный произвол.
Политическое значение Столыпина меня мало интересует. Этот вопрос можно разбирать на всякие лады. С одной стороны – успокоитель, патриот, а с другой – вешатель, властолюбец. Не в этом дело. Важнее всего индивидуальность, личность. Человек, во всяком случае, решительный, эффектный и неизбежно трагический от начала до конца. Вначале взрыв на Аптекарском острове, когда погибло столько людей, когда были искалечены дети Столыпина, и в конце: небывалое по своей сценичности поражение пулею на парадном спектакле в Киеве.
Между этими двумя катастрофами Столыпин развернулся и вырос, как я уже сказал, почти до монарха. Из провинции он вышел и в провинцию вернулся после красивой жизни в царских дворцах Петербурга и красивых речей в обеих Палатах.
Человек трагический потому, что в его глубине таилось раздвоение, т. е. такое свойство, которое, по справедливому правилу всех учебников, составляет главную основу трагедии. Политика Столыпина была национально-дворянско-земельно-монархическая. А выступил он в разгаре пролетарского, социального бунта. Предстояло неизбежное столкновение прогресса и реакции европейской образованности министра с теми кровными, «исконными началами», которые были заложены в его натуре. И его перетянуло в сторону отживающего абсолютизма.
Столыпину приписывают «успокоение». Но чем же оно было достигнуто! Среди прочих афоризмов, Столыпин сказал: «Бунт подавляется силою». Но ведь подобное успокоение удалось и Виленскому-Муравьеву, прозванному «вешателем». И действительно, хотя при Столыпине было казнено революционеров несравненно больше, чем при Муравьеве и даже при Грозном, Столыпин как-то совсем этого не чувствовал. Будучи неустрашимым, он не придавал ни своей, ни чужой жизни особой цены.
Он был увлечен своей «честной» идеей, каким-то благородным культом сильной власти, приносящей несравненные дары «отечеству», сбитому с пути бредом смуты. Всех побеждала личная искренность премьера. После опыта двух первых Дум, Столыпин не поколебался сделать громадный переворот и прорвал зияющую дыру в партии 17 октября: вне закона всеобщая подача голосов была отменена. Создалась заведомо консервативная третья Дума. Вот тут-то, при открытии третьей Думы, Родичев и сказал свою лучшую, разительно сильную речь, поставив премьеру на вид количество виселиц. Народная память заклеймила виселицы Муравьева неизгладимым определением «Муравьевский воротник». И Родичев невольно бросил в аудиторию «Столыпинский галстук»… Поднялся неистовый шум. Столыпин смертельно побледнел. Чуть не произошла дуэль. Родичев как-то загладил свои слова. Но, вероятно, Столыпину хоть на минутку почудилось, что, пожалуй, потомство припишет ему все виселицы, о которых он, в сущности, вовсе не думал. «Карательные экспедиции» и казни были заведены ранее его восхождения на высший пост и продолжали действовать сами собою.
История создала перед Столыпиным обманчивую обстановку. Он думал, что его сильный характер принесет благо «родине» и что именно его работа способна обуздать революцию. А между тем, все «великие потрясения» разбились вовсе не перед его каменною волею. «Потрясения» эти отхлынули не благодаря Столыпину, а исключительно потому, что физическая сила, решающая судьбу всякого бунта, т. е. армия, осталась на стороне монарха. Ведь за исключением психопата Шмидта и мальчика Никитенко во флоте, все войско, в громадной массе, не поддалось революции.
Однако по наружному виду революция все еще казалась грозною во время первых двух Дум. И личность бесстрашного премьера, державшегося какой-то своей линии среди еще не заглохшего террора, понемногу крепла в глазах обывателя. Но вот, когда вторая Дума, не запугавшись слов премьера, продолжала пугать общество своею революционною непримиримостью, – Столыпин ее распустил. И совершилось то единственное, что, быть может, было практически удачным со стороны Столыпина: явился незаконный закон 3-го июня об отмене всеобщего избирательного права.
Уже тогда Столыпин сознавал некоторую преступность этого акта и (как пишет теперь, после убийства, его брат Александр) оставил на имя своего сына пакет для потомства, в разъяснение сделанного им шага. Прогрессист Столыпин, вероятно, оправдывался перед своим сыном побуждениями «патриота». И – странное дело – в этой третьей Думе, перед которою Столыпин ораторствовал как наставник, сверху вниз, – у него оказался неприметный противник, сделавший истинно прогрессивное завоевание. То был Алексеенко, взявший в свои руки народные деньги. Если бы не закон 3-го июня, Алексеенко не прошел бы в Думу. Но когда он в нее попал, то благодаря ему, народное представительство уцепилось за «кошелек» власти. И этим был положен предел фантазиям Столыпина, постепенно клонившимся в сторону абсолютизма.