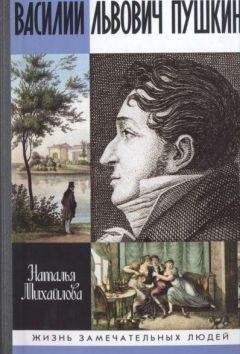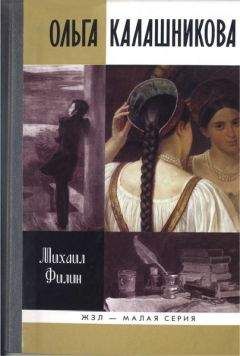Письмо нашей героини — очень светлое, излучающее саму любовь письмо. Оно по праву считается одной из жемчужин пушкинской переписки и занимает видное место в огромном и замечательном отечественном эпистолярном корпусе XVIII–XIX веков.
Как будет показано далее, послание Арины Родионовны от 6 марта 1827 года очень пригодилось Пушкину и для его литературной работы.
Вскоре после получения этого письма, в ночь на 20 мая, поэт оставил Москву и двинулся в Петербург, где наконец-то увидел родителей и сестру. «Надо было видеть радость матери Пушкина: она плакала как ребёнок и всех нас растрогала», — писала присутствовавшая при встрече жена барона А. А. Дельвига своей подруге[357]. В последующие дни Александр Пушкин наведывался в дом Устинова на Фонтанке неоднократно, там он отпраздновал и свои именины, но жить предпочёл всё-таки отдельно и снял двухкомнатный «бедный нумер» в Демутовой гостинице на Мойке.
Через неделю, в четверг 2 июня, Надежда Осиповна, Сергей Львович и Ольга Пушкины в компании с супругами Дельвигами отбыли на морские ванны в Ревель[358]. Поэт же засобирался «во свояси, т. е. во Псков» (XIII, 329). «Я уже накануне отъезда и непременно рассчитываю провести несколько дней в Михайловском», — сообщал он (по-французски) П. А. Осиповой в начале этого месяца (XIII, 330, 563). По обыкновению, Пушкин замешкался и смог выбраться из «пошлой и глупой» столицы лишь 25 (или даже 27-го) июля[359].
До Михайловского он добрался 29 (или 30-го) июля — и с ближайшей почтой известил о том сестру Ольгу. Та поделилась новостью с матерью, а Надежда Осиповна, в свою очередь, с Анной Керн. «Александр пишет две строчки своей сестре, — читаем в ревельском письме Н. О. Пушкиной, датированном 16 августа. — Он в Михайловском, подле нянюшки своей, как вы очень хорошо сказали»[360][361].
Слово, данное Арине Родионовне в феврале, «дружочик» всё-таки сдержал.
В деревне, в «прадедовских вотчинах, находящихся в руках Сергея Львовича» (XIII, 349), поэт прожил два с половиной месяца. Это были месяцы напряжённых трудов и кратких отдохновений в обществе немногих других близких ему людей и няни. Кстати, «дряхлая голубка» упоминалась в первом же пушкинском письме из Михайловского барону А. А. Дельвигу; это письмо от 31 июля адресовалось в Ревель (XIII, 335).
Пушкин пожаловался другу на отсутствие «вдохновения» (XIII, 334)', но уже в августе поэт признался М. П. Погодину, что «почуял рифмы» (XIII, 339). Пришедшие «рифмы» сложились в такие стихи, как «Послание Дельвигу» («Прими сей череп, Дельвиг, он…»), «Поэт» («Пока не требует поэта…»), «Всем красны боярские конюшни…», «Блажен в златом кругу вельмож…», в строфы шестой и седьмой глав «Евгения Онегина» и т. д.
«Рифмами» он не ограничился, сочинял попутно и прозу — в частности <«Арапа Петра Великого»>. В Михайловском Пушкин, по всей видимости, написал начерно в двух тетрадях (ПД № 833 и ПД № 836), а затем свёл воедино главы давно задуманного романа о царском арапе Ибрагиме. Среди исследователей бытует мнение, что прототипом карлицы Ласточки, ходившей за Ибрагимовой невестой Наталией Ржевской, в какой-то степени была Арина Родионовна.
«Голубка» явилась Ласточкой.
У старой «круглой» карлицы, со «сморщенным лицом» и в «чепчике», действительно есть определённое внешнее и глубинное сходство с нашей героиней. «Милая» Ласточка — отнюдь не рядовая «служанка», а персона более высокого ранга, приобретшая «любовь своих господ» и «самовластно» управляющая домом. «Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во всё, знала всё, хлопотала обо всём», — характеризует Ласточку автор.
А красавица Наташа, оказывается, «имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-тилетнего своего сердца» (этим Ржевская напоминает Татьяну Ларину, которая также не имела никаких тайн от няни Филипьевны). Примечательно и то, что карлица в беседах с девицей ссылалась на «старину» и «цаловала»[362] руки своей воспитанницы (VIII, 31–32, 530).
Пусть «дни утех и снов первоначальных» давно прошли — «мама» отчасти осталась пушкинской Музой. И рукописи поэта, создававшиеся во время визитов в Михайловское, доказывали это.
Большая часть <«Арапа Петра Великого»> занесена Пушкиным в чёрную сафьяновую книгу с «полустёртым масонским треугольником» — в так называемую «третью масонскую» тетрадь (ПД № 836). На неё-то и обратил внимание действительный студент Дерптского университета А. Н. Вульф, пришедший навестить соседа 15 сентября: «…Показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил»[363].
С Алексеем Вульфом и его тригорскими родственницами поэт виделся довольно часто, но других знакомств он как будто не водил и у себя никого не принимал. Как выразился в ту пору H. М. Языков, Пушкин «священнодействовал пред фимиамом вдохновенья»[364]. Размеренный ход тогдашней пушкинской жизни если и был нарушен, то лишь однажды.
Есть некоторые основания предполагать, что осенью 1827 года в сельцо Михайловское нагрянул Сергей Александрович Соболевский (1803–1870), библиофил и библиограф, короткий приятель поэта.
Ещё летом, 23 августа, агент Третьего отделения доносил начальству: «Известный Соболевский (молодой человек из Московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надобно беречь, как дитя»[365]. А спустя месяц, 20 сентября, уже сам С. А. Соболевский, находившийся в Петербурге, недвусмысленно сообщал в Москву H. М. Рожалину: «Старайтесь, молодые люди, о Вестнике[366]. И я стараюсь, то есть еду завтра в Псков к Пушкину условливаться с ним письменно и в этом деле буду поступать пьяно (т. е. piano[367])»[368]. Далее он уточнил, что собирается пробыть в Михайловском четыре дня.
В «Картотеке итинерариев[369] лиц ближайшего пушкинского окружения», составленной М. А. и Т. Г. Цявловскими, сведений о передвижениях С. А. Соболевского в сентябре 1827 года нет[370]. «Поездка эта, насколько известно, не состоялась», — писал Б. Л. Модзалевский[371]. Однако фактов, подкрепляющих осторожное высказывание авторитетного пушкиниста, как будто не существует, и посему мы вынуждены считаться с приведёнными выше эпистолярными источниками (прежде всего — с собственноручным письмом С. А. Соболевского). Так что в двадцатых числах сентября 1827 года Сергей Александрович теоретически мог очутиться в псковской деревне у Пушкина.